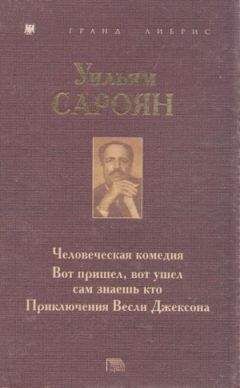— Воспалением легких? — удивился отец. — Почему я об этом не знал?
— Да я все собирался тебе написать.
— И в тяжелой форме?
— Вирусное, говорят. Думал, умру.
— А почему не умер?
— Что?
— Как случилось, что ты выжил?
— Там в госпитале был один парнишка, японец. Он приходил и сидел возле моей постели.
— Японец? — переспросил отец. — Ты уверен?
— Японца от китайца я могу отличить, — сказал я. — Этот был японец. Он тоже только что перенес пневмонию.
— Так что же он делал?
— Да ничего. Просто сидел и дежурил. Подарил мне три маленьких апельсина. Мне и поговорить-то с ним ни разу не пришлось, даже не знаю, кто он такой.
— Японцев все ненавидят, — сказал отец. — А ты — нет?
— Нет. А ты?
— Тоже нет. Так что же он все-таки сделал, что тебе стало лучше?
— Просто сидел — и все. Засыпаю и знаю — он тут. И когда ни проснусь, он все сидит рядом. А когда я его раз не застал, я понял, что худшее все позади. А через две недели, когда мне стало гораздо лучше, я и сам стал просиживать у кровати больного, которому было хуже, чем мне.
— А это кто был?
— Парнишка по имени Дерой Гаррисон. Я узнал его имя по табличке на койке.
— А он кто был?
— Негр.
— И что же, он выздоровел?
— Меня выписали раньше, чем я мог узнать, как у него дела складываются.
— Ты ему что-нибудь подарил?
— Я не знал, понравится ли ему это, и ничего не подарил.
— Но японский мальчик подарил тебе три апельсина.
— Наверно, он знал, что я ничего не буду иметь против.
— А ты их съел?
— Что ты! Конечно, нет. Я их берегу.
— Зачем?
— Просто так, мне хочется. Кожура на них вся высохла и сморщилась.
— А негритянский парнишка просыпался и видел, что ты тут сидишь?
— Несколько раз.
— Что ты ему говорил?
— Ничего.
— Ты думаешь, ему хотелось, чтобы ты там сидел, когда он проснется?
— Не знаю наверное, но думаю что да. Мне ведь хотелось увидеть японца, когда я проснусь.
— А ты улыбался негру?
— Да нет, чему тут улыбаться? Бедняга был на волосок от смерти, так же как и я перед этим.
— А японец тебе улыбался?
— Нет, что ты! Он тоже умирал незадолго до того.
— Я хотел бы, чтобы негр выздровел, — сказал мой отец.
— Я тоже. Он опять помолчал, потом спросил:
— Что это за женщина, с которой ты познакомился?
Я рассказал отцу, что знал об этой женщине. Он налил себе еще стаканчик — и мне на этот раз тоже — и сказал:
— А ты стал почти красавцем. С чего бы это — от пневмонии или от женщины?
— Ты шутишь, я думаю.
— Не без этого.
Некоторое время мы пили молча, потом отец сказал:
— Ну, так что ты обо всем этом думаешь?
— Я думаю, тебе нужно надеть новый костюм и отправиться изучать нью-йоркские рестораны для Лу. По-моему, тебе нужно вступить в дело с ним и с Домиником.
— Да я не об этом, — сказал отец. — Я о том, что будет с тобой дальше в эту войну, — как ты думаешь?
— Кто знает, — ответил я. — Ты-то знал, что с тобой будет в ту войну, в которой ты участвовал?
— Имел довольно ясное представление.
— Ты молодец. Не поужинать ли нам вместе в каком-нибудь ресторане, который ты заодно можешь посмотреть для Лу?
— А может, тебе больше хочется поужинать с твоей женщиной?
— Нет. Я вообще не знаю, буду ли еще с ней встречаться.
— Почему же?
— Мне хочется найти девушку, чтобы жениться и иметь семью.
— Вот это дело стоящее. Ты хочешь сына, верно?
— Да. Откуда ты знаешь?
— Каждый человек хочет сына, когда начнет понимать, что ему самому, может быть, и не одолеть подъема.
— Какого подъема?
— Всю войну, — сказал отец, — я смертельно боялся, что мне так и не доведется поглядеть на тебя, а ничего другого мне не было нужно — только бы поглядеть на своего сынишку. Но тогда я даже еще не встретился с твоей матерью. Я не знал еще, кто она будет и где я ее найду. До войны я и жить-то не начиная как следует, а на войне могло так случиться, что никогда и не удастся начать. Вот поэтому я и остался жить, даже когда понял, что я хуже мертвого — весь искромсанный, ни на что не пригодный — жалкое подобие человека.
— Неправда, отец, ты такой же человек, как и все.
— Когда поймешь, как трудно стать тем, кем мы должны быть, тут-то и начинаешь искать жену, чтобы она дала тебе сына. Раз уж сам ничего не добился, может быть, посчастливится сыну.
— Ты говоришь: «Кем мы должны быть?» Кто же мы, и кем мы должны быть?
Тут отец здорово рассердился — не на меня, а на весь этот мир, где люди, не зная сами, кто они такие есть, стараются помешать человеку стать тем, кем он должен быть.
— Кем мы должны быть? — сказан отец. — Сейчас я тебе объясню. Мы — это Джексоны, вот кто мы, и мы ступаем по этой земле с тех пор, как люди научились ходить. Бесполезно мешать нам стать людьми на нынешнем этапе, ибо все равно рано или поздно кто-нибудь из нас добьется в жизни своего. Я знаю, что не я. Возможно, что и не ты, но, может быть, это будет твой сын. А если не он, то сын твоего сына — кто-нибудь из нас непременно добьется своего, и тогда мы, остальные, повернемся в могиле на другой бок и заснем наконец спокойно. Но не успокоимся мы до тех пор, пока кто-нибудь из нас не сделает этого.
— Да ведь мы и сейчас люди, папа.
— Черта с два, — сказал отец. — Погляди на меня. Погляди на себя. Самое большее, что можно о нас сказать, это — что мы стараемся, еще только стараемся, стать людьми. Люди друг друга не убивают. А на тебе вот форма человека, предназначенного стрелять из ружья в таких же, как ты. Люди так не делают. И не требуют от других, чтобы они так делали. Не вынуждают друг друга к этому. И не пугают все время друг друга до того, что в штаны готовы наложить, — да, да, именно это я и хочу сказать.
— Ты убил кого-нибудь в ту войну, папа?
Отец молчал.
— Кто он был? — спросил я.
— Он был уже мертвый тогда, — сказан отец. — Он был никто. Прежде это был парень лет восемнадцати, а тогда он уже был никто.
— Для чего же ты это сделал?
Отец поглядел на меня, потом поднес стакан к губам и заговорил, не отнимая его ото рта:
— Ради тебя, наверно. Я знаю, что ради себя я бы этого не сделал. Не хочу валить на тебя вину, но это сделал ты — понимаешь? Просто я должен был это сделать. Я не хотел быть убитым, пока не погляжу на тебя.
— За это, отец, спасибо. И все-таки я жалею, что ты это сделал.
— Когда-нибудь и тебе придется испытать то же самое. И ты тоже сделаешь что-нибудь, чтобы остаться в живых и поглядеть на своего сынишку. Даже убьешь кого-нибудь.
— Наверное, этот парень, которого ты убил, чувствовал то же самое.
— Конечно, я в этом уверен, — сказал отец. — Ему не больше хотелось убивать меня, чем мне его, — мы оба это прекрасно видели, — но выхода не было, надо было идти до конца. Я никак не думал, что способен проколоть штыком другого человека, однако я это сделал.
— Штыком? Я думал, ты застрелил его издали, может, когда он перебегал за укрытие.
— К черту, — сказал отец. — Я никогда не стрелял в человека, перебегающего за укрытие. Я вообще никого не застрелил за все время, никогда не был хорошим стрелком — палил в белый свет, как в копеечку. Но мы с тобой пресекли жизнь человека, который тоже хотел иметь сына. Мы должны это как-нибудь возместить.
— Как же это?
— Не знаю, но как-нибудь должны. Когда-нибудь либо я, либо ты, а то и твой сын, мой внук, — мы должны будем возместить этот ущерб. Не будь нынче войны, тебе было бы легче это сделать, так что смотри не ошибись — не прогляди своей девушки, матери твоего сына.
— Я не пользуюсь большим успехом у девушек, — сказал я. — Я неловок, неуклюж и слишком серьезен во всем.
— Вот и отлично, — сказал отец. — Ты найдешь свою девушку. И когда ее встретишь, сразу узнаешь, что это она и есть.
Мы поднялись и поехали ужинать, и за ужином долго толковали о том о сем, потому что отец хотел передать мне все, чему сам научился в жизни.
Глава двадцатая
Весли отправляет и получает письма, ему предоставляют отдельный угол и канцелярский стол, и его принимает за писателя человек, который сам воображает себя таковым
В Нью-Йорке я вел переписку с Гарри Куком. Писал Джо Фоксхолу. Раз в неделю посылал письмо Доминику Тоска, где рассказывал, как мы живем с его братом. Писал я и Лу Марриаччи. И, уж конечно, — отцу. Поэтому он, вероятно, и приехал.
Письма для солдата значат больше, чем что-либо другое, кроме разве демобилизации и возвращения домой. Объясняется это, по-моему, тем, что никто из нас по-настоящему не живет армейской жизнью. Тело наше там, где мы находимся, но душой мы где-то в другом месте.
О том, что я лежал в госпитале с воспалением легких, я отцу не писая, потому что не хотел его беспокоить. Спустя примерно месяц после того, как я вышел из госпиталя, я стал чувствовать себя опять вполне здоровым и не обращая больше внимания на дождь, снег, слякоть, пасмурное небо и тому подобное. Рано или поздно человек приучается таскать с собой свой собственный климат.