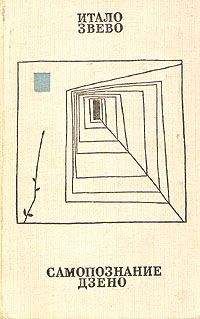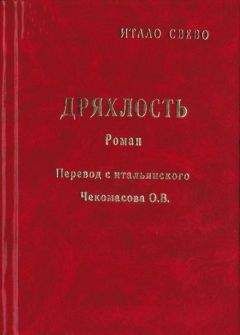Она казалась новобрачной, бедная Ада, с этими своими глазами, расширившимися словно от счастья. Ее болезнь умела подделать любые чувства.
Гуидо ехал вместе с нею: он должен был проводить ее и спустя несколько дней вернуться. Сидя на скамейке, мы ждали, когда поезд тронется. Ада высунулась в окно и махала платочком до тех пор, пока не исчезла у нас из глаз».
Потом мы проводили всхлипывающую синьору Мальфенти домой. Когда мы прощались, теща, поцеловав Аугусту, поцеловала также и меня.
— Извини! — сказала она, засмеявшись сквозь слезы. — Это вышло у меня нечаянно, но если ты позволишь, я поцелую тебя еще раз.
Даже маленькая Анна, теперь уже двенадцатилетняя, пожелала меня поцеловать. Альберта, которая в ближайшее время должна была обручиться и, следовательно, бросить национальный театр на произвол судьбы и которая была обычно со мной очень сдержанна, в тот день с жаром протянула мне руку. Все любили меня за то, что моя жена была цветущей, здоровой женщиной, и выражали, таким образом, неприязнь Гуидо, жена которого была больна.
Но именно тогда я едва избежал риска сделаться менее образцовым мужем. Я невольно заставил страдать свою жену, и виной всему был сон, которым я по простоте душевной с ней поделился.
Сон был такой: мы трое — Аугуста, Ада и я — высовывались из окошка; если быть точным, то мы высовывались из самого маленького окошка, которое было в наших трех домах — моем, тещи и Адином: а именно из кухонного окна в доме моей тещи, которое на самом деле выходит в маленький дворик, а во сне выходило на Корсо. У крохотного подоконника было так мало места, что Ада, которая стояла посредине, держа нас под руки, тесно ко мне прижалась. Я взглянул на нее и увидел, что глаза ее снова сделались холодными и ясными, а профиль обрел прежнюю чистоту линий, равно как и очертания затылка под легкими завитками — теми самыми завитками, которые мне приходилось видеть так часто, когда Ада поворачивалась ко мне спиной. Несмотря на всю свою холодность (почему-то я именно так воспринимал ее здоровье), она продолжала прижиматься ко мне так, как это показалось мне в вечер моего обручения за вертящимся столиком. Я весело сказал Аугусте (правда, для того, чтобы о ней вспомнить, мне пришлось сделать над собой некоторое усилие): «Нет, ты только посмотри, какая она стала здоровая! Где же Базедов?» — «А ты разве не видишь?» — ответила Аугуста, которой — единственной среди нас — была видна улица. Тогда мы тоже с трудом высунулись из окна и увидели большую толпу, которая с угрожающими криками двигалась по улице в нашу сторону. «Так где же Базедов? » — спросил я еще раз. И тут я его увидел. Это за ним бежала толпа, за старым нищим в длинном плаще — изорванном, но из роскошной жесткой парчи. У него была большая голова, седая грива развевалась по ветру, и вылезающие из орбит глаза смотрели тем самым взглядом, который я не раз замечал у преследуемых животных — в нем смешались страх и угроза. А толпа вопила: «Смерть отравителю!»
За этим последовал небольшой интервал пустой, без снов, ночи. Потом, вдруг сразу же мы с Адой очутились на самой крутой лестнице, которая только есть в наших трех домах: на той, что ведет на чердак моей виллы. Ада стояла на несколько ступенек выше, но лицом ко мне: как будто я подымался, а она спускалась. Я обнял ее ноги, а она склонилась ко мне — то ли от слабости, то ли для того, чтобы быть ко мне ближе. На мгновение она показалась мне изуродованной болезнью, но потом, в тревоге к ней приглядевшись, я вновь увидел ее такой, какой она была у окна — красивой и здоровой. Она сказала мне своим твердым голосом: «Иди вперед, я тебя догоню». Я с готовностью повернулся, чтобы пойти перед нею, но сделал это недостаточно быстро и успел заметить, что дверь на чердак тихонько открывается и из нее высовывается лохматая белая голова Базедова с этим его испуганным и одновременно угрожающим лицом. Я увидел его слабые ноги и жалкое, хилое тело, едва прикрытое плащом, и пустился бежать — уж не знаю, для того ли, чтобы обогнать Аду, или для того, чтобы убежать от нее.
Тут я, видимо, проснулся и, задыхаясь, еще не совсем очнувшись, рассказал то ли весь сон, то ли какую-то часть его Аугусте, чтобы потом заснуть снова — глубоко и спокойно. Очевидно, даже в полусне я слепо следовал своей старинной привычке виниться в совершенных мною проступках.
Утром на лице Аугусты была разлита восковая бледность, появляющаяся лишь в совершенно исключительных случаях. Я прекрасно помнил свой сон, но не представлял себе с точностью, что именно я ей рассказал. С выражением смиренного страдания на лице она сказала:
— Ты чувствуешь себя несчастным оттого, что она больна и уехала. Поэтому ты и видишь ее во сне.
Я защищался как мог, смеясь и поднимая на смех ее. Дело было не в Аде, а в Базедове, и я рассказал ей о том, как тщательно изучил я эту болезнь и как спроецировал ее на жизнь всего человечества. Не знаю, удалось ли мне убедить Аугусту. Проговорившись со сна, защищаться трудно. Это тебе не то что явиться к жене после того, как изменил ей наяву и в здравом рассудке. Впрочем, от ревности Аугусты я ровно ничего не терял: она так любила Аду, что даже ревность не могла бросить на ту никакой тени; что же касается меня, то Аугуста обращалась со мной с еще большей нежностью и уважением и была благодарна за малейшее проявление любви.
Несколько дней спустя Гуидо вернулся из Болоньи с прекрасными известиями. Директор санатория гарантировал полное выздоровление при условии, что Ада найдет дома спокойную обстановку. Прогноз врача Гуидо сообщил совершенно просто, доказав полное непонимание его сути и не заметив, что этот приговор только укрепил подозрения, которые и так уже имела на его счет семья Мальфенти. И я сказал Аугусте:
— Видно, мне снова угрожают поцелуи твоей матери.
По-видимому, под управлением тети Марии Гуидо жилось не сладко. Время от времени он принимался ходить взад и вперед по конторе, бормоча:
— Двое детей... Три няньки... И ни одной жены!
И из конторы он стал отлучаться еще чаще, срывая плохое настроение на бедном зверье и на рыбах. Но когда в конце года мы получили из Болоньи известие, что Ада выздоровела и вот-вот вернется домой, он не показался мне слишком счастливым. Привык ли он к тете Марии или видел ее так редко, что выносить ее присутствие стало ему легко и даже приятно? Разумеется, он не проговорился о своем недовольстве, разве лишь выразил сомнение в том, что Ада поступила правильно, поторопившись покинуть санаторий: надо было сначала гарантировать себя от возможности рецидива. И в самом деле, когда она вскоре — еще той же зимой — оказалась вынуждена вновь вернуться в Болонью, он торжествующе заявил:
— Ну? Что я говорил?
Не думаю, впрочем, чтобы в этом торжестве была какая-нибудь иная радость, помимо той, которую он всегда так живо ощущал, когда ему удавалось что-либо предвидеть. Он не желал зла Аде, но охотно подержал бы ее подольше в Болонье.
Когда Ада вернулась, Аугуста была прикована к постели в связи с рождением маленького Альфио, но вела она себя просто трогательно. Она пожелала, чтобы я пошел на вокзал с цветами и сказал Аде, что она хочет видеть ее сегодня же. А если Ада не сможет заехать к ней прямо с вокзала, она просит, чтобы я не мешкая воротился домой: ей не терпится узнать, как Ада выглядит — полностью ли вернулась к ней ее прежняя красота, которой так гордилось все семейство.
На вокзал пришли я, Гуидо и Альберта — одна, без матери, потому что синьора Мальфенти проводила теперь большую часть времени подле Аугусты. Сидя на скамейке, Гуидо пытался убедить нас в том, что он безумно рад возвращению Ады, но Альберта слушала его весьма рассеянно: для того чтобы — как она сказала мне позже — ничего ему не отвечать. Что касается меня, то притворяться перед Гуидо мне не стоило теперь никакого труда. Я привык делать вид, что не замечаю предпочтения, которое он оказывает Кармен, и ни разу не осмелился намекнуть ему на его прегрешения перед женой. Поэтому мне и сейчас было нетрудно притворяться, что я внимательно его слушаю и любуюсь радостью, которую он испытывает в связи с возвращением обожаемой жены.
Когда поезд ровно в полдень подошел к вокзалу, Гуидо бросился вперед, чтобы первым подбежать к жене, которая выходила из вагона. Он обнял ее и нежно поцеловал. И я, глядя на его согнутую спину — он наклонился, чтобы поцеловать жену, которая была меньше его ростом, — подумал: «Что за актер!» Потом он взял Аду за руку и подвел к нам:
— Вот она: совсем такая же, какой мы ее любили!
И тут стало ясно, какой он был лицемер и притворщик, потому что если бы он внимательно взглянул в лицо бедной женщине, он заметил бы, что теперь она может рассчитывать не на любовь, а лишь на равнодушие. Лицо у Ады было как будто плохо вылеплено: у нее вновь появились щеки, но они оказались не на месте, словно плоть, вернувшаяся к ней, забыла, где она располагалась раньше, и поместилась ниже, чем следует. Это было больше похоже на припухлости, чем на щеки. Глаза тоже вернулись в орбиты, но ущерб, который они понесли, выйдя из них, оказался непоправимым. Основные линии лица, ранее такие четкие, оказались смазаны и безнадежно разрушены. Когда мы прощались, уже выйдя из здания вокзала, я заметил в ослепительном свете зимнего солнца, что и цвет ее лица, который я так когда-то любил, стал совсем иным. Она побледнела, а на припухлых местах кожа была усеяна красными пятнами. Вне всяких сомнений, здоровье покинуло это лицо, а врачи лишь помогли вернуть ему в какой-то мере его обманчивую видимость.