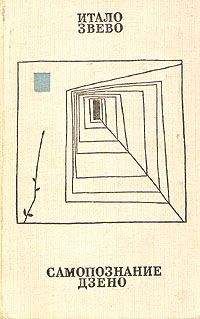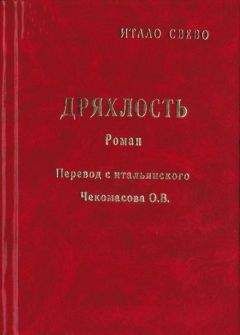Так как все им сказанное я намеревался сообщить Аугусте, чтобы ее успокоить, я продолжал настаивать:
— Ты же знаешь, все считают, — и, наверное, не без оснований, — что у меня нет никаких способностей к коммерции. Поэтому я готов исполнить все, что ты мне прикажешь, но уж никак не могу брать на себя ответственность за твои поступки.
Он с живостью согласился. Он вообще так хорошо себя чувствовал в роли, которую я ему навязал, что даже забыл о своих огорчениях в связи с балансом. Он заявил:
— За все отвечаю я. Все здесь носит мое имя, и я бы ни за что не согласился, даже если бы кто-нибудь и пожелал разделить со мной ответственность.
Для передачи Аугусте все это годилось как нельзя лучше, но значительно превосходило мои требования. Нужно было видеть, с каким видом он произнес последнюю фразу: прямо-таки апостол, а не купец, стоящий на грани банкротства. Удобно устроившись на своем пассивном балансе, он снова почувствовал себя моим хозяином и господином. И опять, как это часто случалось в период нашей совместной жизни, порыв искреннего участия с моей стороны был сведен на нет словами, в которых сквозило его непомерное уважение к самому себе. Он фальшивил. Да, я вынужден употребить именно это слово: этот великий музыкант фальшивил!
Я резко спросил:
— Хочешь, я завтра же сделаю копию баланса для твоего отца?
На языке у меня вертелась еще более резкая фраза, а именно, что, закрыв баланс, я впредь воздержусь от посещения его конторы. Но я не произнес ее, потому что не знал, куда в таком случае я буду девать такую уйму остающегося у меня свободного времени. Однако мой вопрос почти заменил фразу, которую мне пришлось проглотить. Ею я напомнил, что в этой конторе хозяином был не только он.
Гуидо, по-видимому, удивили мои слова: слишком уж они не соответствовали всему, что говорилось до сих пор и с чем я, казалось, был совершенно согласен. И он заявил прежним тоном:
— Я сам покажу тебе, как надо будет сделать эту копию.
Я заорал, что на это я не согласен. За всю свою жизнь я ни на кого не кричал столько, сколько на Гуидо, потому что порой он казался мне прямо-таки глухим! Я объяснил, что бухгалтер тоже несет ответственность перед законом и я не собираюсь выдавать за копию взятые с потолка колонки цифр.
Он побледнел и признал, что я прав, но добавил, что, будучи хозяином, имеет право запретить мне делать выписки из его счетных книг. Я охотно признал, что это так, и тогда он, воспрянув духом, заявил, что отцу напишет сам. Сначала он вроде бы собирался сесть писать сразу же, но потом раздумал и предложил мне немного пройтись. Я согласился, чтобы сделать ему приятное. Я понимал, что он не успел еще переварить баланс, и желает пройтись, чтобы немного его утрясти.
Эта прогулка напомнила мне ту, что мы совершили с ним в ночь моего обручения. Не хватало луны, потому что наверху висел туман, но внизу все было точно таким же, и прозрачный воздух позволял нам уверенно различать путь. Гуидо тоже вспомнился тот достопамятный вечер.
— С той поры мы ни разу с тобой не гуляли ночью. Помнишь, как ты мне тогда объяснял, что на луне целуются так же, как и под луной? Я уверен, что и сейчас на луне по-прежнему длится тот вечный поцелуй, хотя ее сегодня и не видно... Зато здесь, внизу...
Неужели он снова собирался злословить об Аде? О бедной больной женщине? Я прервал его, но робко, почти с ним соглашаясь (ведь разве не для того я с ним и пошел, чтобы помочь ему забыться?):
— О да! Здесь, внизу, не всегда приходится целоваться! Но зато поцелуй наверху — это лишь изображение поцелуя. Ведь поцелуй — прежде всего движение!
Я пытался уклониться от обсуждения его проблем — то есть старался не говорить ни о балансе, ни об Аде, а поэтому даже удержал рвавшуюся с языка фразу о том, что там, наверху, от поцелуя не родятся близнецы. Но он хотел избавиться от мыслей о балансе и не нашел для этого ничего лучшего, как начать жаловаться на другие свои несчастья. Как я и предчувствовал, он стал злословить об Аде. Начал он с сетований на то, что первый же год его брачной жизни оказался для него таким несчастливым. Он имел в виду не близнецов, которые были такие славные, а болезнь Ады. Он считал, что именно болезнь сделала ее раздражительной, ревнивой и, несмотря на ревность, далеко не такой любящей, как раньше. В заключение он с горечью воскликнул:
— Жизнь жестока и несправедлива!
Я чувствовал себя совершенно не вправе высказывать какие-либо суждения, касающиеся его отношений с Адой. Но в то же время мне казалось необходимым что-то сказать. Он закончил свою речь, прилепив к слову «жизнь» два определения, которые не отличались излишней оригинальностью. Мне удалось придумать кое-что получше, потому что я критически отнесся к тому, что сказал он. Порой говоришь, следуя лишь звучанию случайно соединившихся слов. Потом смотришь — а стоило ли все сказанное потраченного на него дыхания, и иногда обнаруживаешь, что случайное соединение звуков породило мысль. Так вот, я сказал:
— Жизнь не плоха и не хороша: она оригинальна.
Когда я поразмыслил над сказанным, мне показалось, что я произнес нечто значительное. Охарактеризованная таким образом жизнь показалась мне настолько новой, что я принялся разглядывать ее так, словно видел впервые, со всеми ее твердыми, жидкими и газообразными телами. Если б я рассказал о ней кому-нибудь, кто не имел к ней привычки и, следовательно, нашего здравого смысла, у него бы дух захватило перед лицом этой громоздкой конструкции, лишенной всякого смысла. Он спросил бы меня: «Но как вы могли ее выносить?» И, познакомившись с ней во всех деталях — начиная от огромных небесных тел, подвешенных в высоте для того, чтобы мы на них только смотрели, но не могли дотронуться, и кончая тайной смерти, — он бы, конечно, воскликнул: «Очень оригинально!»
— Жизнь оригинальна! — сказал Гуидо смеясь. — Где это ты вычитал?
Я не счел нужным уверять его, что нигде этого не вычитывал, потому что в таком случае мои слова в значительной мере потеряли бы для него свой вес. Я же, чем больше раздумывал, тем более оригинальной находил жизнь. Не надо было даже смотреть на нее глазами пришельца из других миров, чтобы увидеть, как странно в ней все устроено. Достаточно было вспомнить все то, чего мы, люди, от нее ждем, как она сразу покажется нам такой странной, что невольно возникнет мысль, будто человек появился в ней по ошибке, а на самом деле он не имеет к ней никакого отношения.
Не сговариваясь, мы, как и в тот вечер, завершили нашу прогулку на обрыве Виа Бельведере. Найдя парапет, на котором он лежал тогда, Гуидо снова взобрался на него и улегся. Он что-то тихонько напевал себе под нос, по-прежнему одолеваемый своими мыслями, и раздумывал, конечно, о неумолимых цифрах своей отчетности. Я же, вспомнив о том, что на этом самом месте хотел его убить, и сравнив тогдашние свои чувства с нынешними, лишний раз подивился несравненной оригинальности жизни. И тут мне вдруг пришло в голову, что еще совсем недавно, вспылив из-за уязвленного самолюбия, я набросился на бедного Гуидо, и это в один из самых тяжелых дней, выпавших ему в жизни! Я попытался разобраться в случившемся. Так как я без особых терзаний наблюдал за страданиями, которые причинил Гуидо любовно составленный мною баланс, мне пришло в голову одно любопытное сомнение и сразу же после — одно любопытнейшее воспоминание. Сомнение было такое: хороший я человек или плохой? Воспоминание же было вызвано к жизни этим сомнением, которое отнюдь не было для меня новым. Я вдруг увидел себя ребенком, еще в платьице. Ребенок подымал личико к улыбающейся матери и спрашивал: «Я хороший или плохой?» Это сомнение родилось в моей детской душе, конечно, потому, что одни называли меня хорошим, а другие — в шутку — плохим. Неудивительно, что ребенок встал в тупик перед этой дилеммой! О несравненная оригинальность жизни! Разве не поразительно, что сомнение, поселившееся в душе ребенка в той еще совсем детской форме, я не сумел разрешить, даже став взрослым и перевалив за середину своего жизненного пути?
Сомнение, одолевшее меня в такую мрачную ночь, да еще на том самом месте, где когда-то у меня возникло желание убить, поселило в моей душе глубокую тревогу. То же сомнение, возникшее в детской головке, с которой едва сняли младенческий чепчик, причиняло, конечно, меньше страданий: ведь детям всегда говорят, что плохой еще может исправиться. Чтобы избавиться от тревоги, я попытался снова в это поверить, и это мне удалось.
Если бы мне это не удалось, мне осталось бы только оплакивать и себя, и Гуидо, и всю нашу несчастную жизнь. Поверить вновь в старую, детскую иллюзию заставило меня доброе намерение. Намерение заключалось в следующем: я снова займу свое место рядом с Гуидо и буду работать, добиваясь процветания дела, от которого зависела его жизнь и жизнь его близких, и все это я буду делать безо всякой корысти. Передо мной смутно рисовались картины того, как я буду ради него бегать, хлопотать, стараться. Я даже не исключал возможности того, что ради его блага сделаюсь в один прекрасный день великим, предприимчивым, гениальным коммерсантом! Вот о чем думал я в одну из тех мрачных ночей, которые порой выпадают нам среди нашей оригинальнейшей жизни!