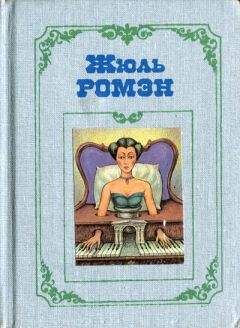Пожалуй, в школе на некоторых уроках, когда я не слушал или только машинально записывал, я находился ближе всего к относительному одиночеству. Но мои соседи справа и слева всегда были готовы сказать шепотом какую-нибудь шутку или какое-нибудь замечание. Я ожидал этого. Да и сам, как только какая-нибудь мысль приходила мне в голову, мог, если в ней было не много слов, тут же освободиться от нее или сделать это во время ближайшей перемены, если требовалось больше времени, чтобы ее выразить.
С тех пор, как я стал взрослым и служу на пароходе, положение, разумеется, немного изменилось. Случается, что я провожу в одиночестве целый час, и никто не стучится в дверь моей каюты. А когда ко мне входят, то извиняются, что побеспокоили меня. Теоретически я немного больше располагаю собой. Правда, я все еще купаюсь в товарищеских отношениях, но не чувствую себя таким обнаженным, как прежде. Достоинство лица, занимающего высокое положение, облекает меня со всех сторон. Чтобы добраться до меня, нужно произвести некоторое усилие. Вступить со мной в соприкосновение теперь не так просто, как в детстве. Но я по-прежнему не знаю, что такое одиночество, ни чем оно может стать, когда есть достаточно времени, чтобы оно развернулось. С восьми часов утра и до двенадцати ночи и даже позже товарищи, служащие парохода, сотни разных людей приходят, уходят и задевают меня, как пистолеты, заряженные словами. Пароход окружает меня несколькими зонами различных отношений. Ночью я завишу от звонка или от приятеля, которому не хочется спать и который будит меня под тем или иным предлогом, например: «Виден очень красивый айсберг», или: «Англичанин в очках рассказывает в баре замечательно интересные вещи». Да и вообще сон на пароходе никогда вполне не подходит под понятие частной собственности.
В Ф*** я знакомлюсь с совершенно новыми условиями. Я провожу целый день, не обменявшись ни с кем даже четырьмя фразами; да и эти четыре фразы произносятся в строго определенные моменты. Они не заключают в себе непосредственной угрозы одиночеству.
Если, например, кто-нибудь случайно обращается ко мне с вопросом («Это не вы искали справочник Ботена?» или «Вы не знаете, как пройти на почту?»), эти покушения на одиночество не причиняют мне вреда и не вызывают никаких опасений.
Само собой разумеется, я не покидаю обитаемых мест. Я всегда нахожусь или в столовой, или в курительной комнате отеля, или на улице, или среди гуляющих в парке, или среди домов на окраине городка. Одиночество, в котором я пребываю, не имеет ничего общего с одиночеством отшельника. Оно стоит еще очень высоко над абсолютным нулем. Но оно является нулем на шкале моей жизни.
Насколько я могу припомнить, этот опыт сам по себе не был неприятным, по крайней мере, вначале. Такое впечатление, будто перемещаешься в среде, сопротивление которой значительно уменьшилось, которая повсюду совершенно равномерна и где нет никаких случайностей и местных сгущений. Сразу же становится как-то легче. Всякое распространение в ней совершается с удивительной легкостью. Мысли текут совершенно спокойно, в то время как в обычной жизни они всегда подвержены некоторым толчкам. В Ф*** я даже позволял себе иногда роскошь приостанавливать движение наиболее интересовавших меня идей, заставлял их немного томиться, а значит и оживляться. А тем временем забавлялся пустяками. Я знал, что чужие мысли не станут прогонять мои собственные. У меня было такое чувство, что, занимая эту остановку пустяками, я не терял времени, но испытывал его эластичность.
Кажется также, что в этих условиях лучше узнаешь себя, потому что располагаешь разнообразными точками зрения, новыми и удобными. Очистилось место вокруг твоей собственной личности и можешь обойти ее, как здание, освобожденное от соседних построек.
В этот именно момент смысл впечатлений становится двойственным. Страдаешь от чрезмерного расширения, как будто вещь, которой ты являешься, не ограничивается больше собственными пределами, а мысли пенятся и переливаются через край, подобно пузырькам, поднимающимся над бокалом шипучего вина.
В заключение испытываешь даже стеснение, не встречая нигде препятствий. Открываешь, насколько гигиеничными были защитные и оборонительные позиции. Замечаешь, что умеренная борьба с другими, как это ни парадоксально, дает покой, и чтобы испытать настоящее чувство облегчения, нужно хранить некоторую напряженность против внешнего мира.
Тогда мысли начинают рождаться скорее и в слишком большом количестве. Даже самые малоценные отказываются ждать. Не умеешь больше поставить их на свое место. Все, что шевелится в голове, становится необычайно интересным. Ум похож на страницу, где типографские знаки заполняют все поля и промежутки между строками, или на рисунок, в котором слишком мало серых нейтральных мест. И, не сознавая в точности, когда это случилось, замечаешь, что благодушное настроение понемногу рассеялось и уступило место какому-то еле ощутимому беспокойству.
Задаешь себе вопрос: «Не собираюсь ли я, чего доброго, заскучать?». Однако, то, что испытываешь, не отвечает сложившимся в уме представлениям о скуке. До сих пор скука рисовалась в виде умственного истощения. Скучал, когда для ума не было пищи, когда однообразная работа, плоский разговор или пресное чтение оставляли ум на три четверти незанятым. Это придавало всей умственной деятельности бодрящий характер. Страдать от того, что способности не находят применения, жаловаться на слишком большой аппетит, — что в сущности может быть здоровее?
И вот констатируешь, что мысль ведет себя, как довольно-таки своеобразная материя: быть может, явно не опасная, но за которой надо следить. Она похожа на жидкости, которые не портят сосуда при условии, если они только проходят через него. Пусть мысли проявляют себя бурно, это не так уж важно, лишь бы они поскорее убирались. Но в одиночестве, хотя бы и умеренном, освободиться от них нелегко. Мысли не решаются покинуть вас. Мне даже кажется, что чем медленнее они уходят, тем больше формируется новых, как будто пребывание мыслей на месте вызывает раздражение ума и усиливает его деятельность[8].
Короче говоря, к концу третьей недели, и даже раньше, нельзя было отрицать наличия какого-то охватившего меня неприятного чувства. Я старался обращать на него как можно меньше внимания. Чтобы отделаться от него, я называл его скукой. Я избегал приписывать его моему одиночеству. Предпочитал обвинять во всем маленький городок. «Где-нибудь в другом месте было бы прекрасно. Здесь же все вокруг имеет слишком унылый вид».
Словом, мой опыт пребывания в одиночестве длился достаточно долго. О других подобных опытах я специально не думал. Но, может быть, я уже был подготовлен к ним.
На третьей неделе моего пребывания в Ф*** я случайно вспомнил, что в окрестностях у меня есть дальние родственники, возраста моих родителей. Они жили совсем рядом, в городке, расположенном на магистрали, у железнодорожного узла. Через этот город обыкновенно проезжали в Ф***, и я сам прибыл этим же путем. Во время пересадки я обратил внимание на размеры вокзала, на величину вспомогательных строений, совершенно не думая, что именно здесь мой родственник Барбленэ занимал должность начальника мастерских и проживал со своею семьею.
Я никогда не видел этих Барбленэ. Но слышал о них. Представлял я их себе, как провинциальных буржуа, до крайности скучных, причем эти недостатки не компенсировались у них ни старинным домом, ни хорошей мебелью, ни примыкающим к церкви садом; другими словами, в моих глазах это были буржуа, занимавшие предоставленную им администрацией дороги квартиру и прокопченные дымом локомотивов.
Но едва лишь я вспомнил о них, как у меня явилось желание прокатиться к ним. Я не знал еще, постучусь ли я к ним в дверь. Но я потолкаюсь на вокзале. При случае разузнаю о них. Это будет, во всяком случае, любопытно.
Меня особенно привлекала мысль об этом громадном вокзале, на который я успел только мельком взглянуть, и я чувствовал, что готов разгуливать на его территории без всякой цели. Ф*** начинал вызывать во мне сожаление о более грандиозных зрелищах.
И действительно, поиски родственника Барбленэ послужили мне хорошим предлогом побродить во всевозможных служебных строениях, куда обычно публика не допускалась. Барбленэ я нашел в мастерской, перед поврежденным локомотивом, за разборкой которого он наблюдал. Он повел меня к себе в дом. Приближался вечер. Я довольно быстро проглотил рюмку мадеры и тут же познакомился с г-жей Барбленэ и с одной из ее дочерей. Затем принял приглашение пообедать у них через два дня.
По возвращении я не переставая думал о том, что увидел. Люди оставили во мне только самое общее впечатление. Но их дом поразил меня. Расположенный далеко от пассажирских помещений, среди обширной дельты железнодорожных путей, через которые надо перейти, чтобы до него добраться, он был столь же волнующим, как хижина рыбака на заброшенном островке. Захлестываемый и днем и ночью бежавшими мимо поездами, как атлантическими волнами, он не мог не вызвать в моряке, кроме удивления, еще и дружественного чувства.