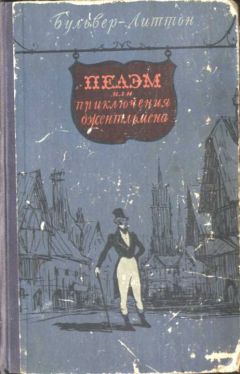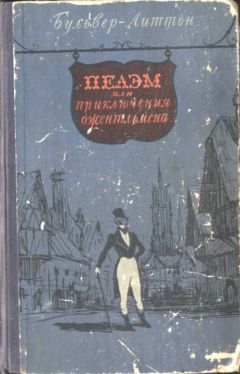Кто прочтет благородную, волнующую апологию (Элджернона Сиднея[821] и не посочувствует словам, которыми он себя утешает, не меньше, чем его бедствиям? Говоря о том, что законы превращаются в ловушку, вместо того чтобы служить защитой для людей, и приводя в пример их шаткость и даже гибельность во времена Ричарда Второго, он добавляет: «Одному богу ведомо, к чему приведет подобное их применение в наши дни. Может быть, в милосердии своем он скорее снизойдет к обездоленному своему народу. Я умираю с верою в го, что он это совершит, хотя не знаю, когда и каким образом».
— Мне нравится, — сказал Кларендои, — энтузиазм, черпающий утешение в столь благородном источнике. Но не кажется ли вам, что тщеславие — не менее могущественный двигатель, чем любовь к человечеству? Разве не стремление блистать перед людьми побуждает нас усердствовать во всем, что этому способствует? А раз подобное чувство может творить, то разве оно не в состоянии укреплять силы? Я имею в виду следующее: раз вы допускаете, что желание блистать, ослеплять, наслаждаться славословиями — не редкая побудительная причина к тому, чтобы начать какое-нибудь великое дело, то и уверенность обрести в будущем награду за подобное желание сама по себе есть уже большая награда. Допустим, например, что именно такое стремление привело к созданию «Потерянного рая», разве мы вправе тогда отрицать, что оно же могло поддерживать поэта в его несчастьях? Или вы полагаете, что он больше думал об удовольствии, которое его поэма доставит потомству, чем о хвалах, которые потомство станет расточать его поэме? Цицерона мы все считаем великим патриотом и человеколюбцем, но ведь оставил же он нам самые чистосердечные признания такого рода! Теперь, когда мы знаем, что и побудительной причиной и желанной наградой было для него тщеславие, разве нам не дано право распространить также и на других то, что мы по поводу него узнали о человеческой природе? Что до меня, я не хотел бы задумываться над тем, как велика была доля тщеславия в возвышенном патриотизме Сиднея и непоколебимости Катонова духа.
Гленвил одобрительно кивнул головой. — Но, — иронически заметил я, — почему же вы так немилостивы к этому злосчастному и всеми порицаемому чувству, раз никто из вас не отрицает, что оно дает начало великим и благотворным деяниям? Зачем клеймить тщеславие как порок, когда оно порождает столько доблести или во всяком случае содействует ее порождению? Меня удивляет, почему древние не воздвигали ему самых великолепных храмов. Quant a moi, отныне я стану говорить о нем только как о primum mobile[822] всего вызывающего в нас уважение и восхищение и буду считать, что делаю человеку величайший комплимент, объявляя его до крайности тщеславным!
— Я готов с вами согласиться, — смеясь, воскликнул Винсент. — В других мы не одобряем тщеславия лишь потому, что оно наносит ущерб нашему собственному. Из всех человеческих страстей (если сейчас я позволю себе назвать его так) эта — самая нескромная: оно все время выбалтывает свою тайну. Умей оно помалкивать, его принимали бы в обществе так же любезно, как любого другого незваного гостя, если он хорошо одет и хорошо воспитан. Но за болтливость его все презирают. Однако, говоря по правде, надо признать, что тщеславие само по себе ни порок, ни добродетель, так же как, например, этот нож сам по себе ни опасен, ни полезен. То или иное качество придает им человек, которому они служат. Так, например, великий ум стремится блистать или проявляет тщеславие в великих деяниях, легковесный — в пустяках и так далее, в зависимости от многоразличия человеческих умов. Но я не могу согласиться с мистером Кларендоном, что мое восхищение Олджерноном Сиднеем (Катоном я никогда не восхищался) должно хоть сколько-нибудь уменьшиться, если я обнаружу, что его сопротивление тирании, пусть даже в немалой степени, происходило от тщеславия или что это же тщеславие утешало его, когда он пал жертвой своего сопротивления тирании. Ибо здесь мы найдем всего-навсего доказательство того, что среди множества чувств, обуревавших его душу, — возмущения угнетением (обычного для всех людей), восторженной любви к свободе (возобладавшей в нем над всеми прочими чувствами), желания облагодетельствовать других, благородной гордости от сознания, что и умирая он остается верен себе, — что среди всего этого и среди множества иных чувств, столь же достойных и чистых, имелось и еще одно, может быть тоже достаточно могучее, — желание, чтобы жизнь его и смерть получили у потомства справедливую оценку. Пренебрежение мнением людей есть презрение к добродетели. Нельзя считать пороком тщеславие, состоящее в стремлении получить от благородных людей одобрение своим благородным делам: «заслужив уважение у самого себя, — говорит величайшие из римских философов, — ты проявишь добродетель, стремясь к тому, чтобы тебя уважали другие».
— Подчеркивая слово уважение, — заметила леди Розвил, — вы, я полагаю, придаете ему особое значение?
— Да, — ответил Винсент. — Я употребляю его для того, чтобы противопоставить восхищению. Всеобщее восхищение может вызвать и дурной поступок (ибо многие дурные дела сопровождаются звоном, благодаря которому они сходят за настоящее золото), но всеобщее уважение может заслужить только доброе дело.
— А нельзя ли, — скромно заметила Эллен, — сделать из этого противопоставления вывод, который очень поможет нам в оценке тщеславия: не вправе ли мы рассудить, что тщеславие, стремящееся только к тому, чтобы завоевать уважение других, это всегда добродетель, а тщеславие, ставящее себе целью всеобщее восхищение, очень часто является пороком?
— Ваш вывод можно принять, — сказал Винсент.—
Но прежде чем оставить эту тему, я хотел бы отметить, как нелепа точка зрения поверхностных людей, считающих, что философы, изучая человеческие побуждения, стремятся опорочить поступки людей. Привлечь наше внимание к наиболее существенному вовсе не означает отнять у нас возможность восхищаться чем-либо. И, однако, как раздражаются неосмысленно-восторженные люди, когда мы обнаруживаем реальные чувства там, где ожидались, выспренние! Так, сторонники учения о пользе — самой доброжелательной, ибо самой снисходительной философии, — клеймятся как себялюбцы и корыстолюбцы, хулители нравственного совершенства, не верящие в бескорыстное деяние. Самые лучшие друзья порока — это предрассудки, именующие себя добродетелью. Le pretexte ordinaire de ceux qui font le malheur des autres est qu'ils veulent leur bien.[823]
Когда Винсент умолк, взгляд мой случайно упал на Гленвила. Он поднял глаза и слегка покраснел, когда они встретились с моими. Но он не отвел взгляда: упорно, пристально смотрели мы друг на друга, пока Эллен, внезапно обернувшись, не заметила странного выражения наших глаз и не положила, словно охваченная каким-то страхом, свою руку на руку брата.
Было уже поздно. Он встал, собираясь уходить, и, пройдя мимо меня, тихо сказал:
— Еще немного, и ты узнаешь все.
Я не ответил, и он вместе с Эллен вышел из комнаты.
— Боюсь, что леди Розвил провела очень скучный вечер, выслушивая наши нелепые разговоры и примеры из древних времен, — сказал Винсент.
Взгляд той, к кому он обращался, был неотрывно устремлен на дверь. Я стоял подле нее. Когда слова Винсента дошли до ее слуха, она внезапно повернулась; на руку мне упала слеза. Она заметила это, и, хотя я нарочно не смотрел ей в лицо, я увидел, что даже шея у нее покраснела. Но и поддавшись чувству, она, подобно мне, слишком многому научилась в свете, чтобы легко потерять самообладание. Она шутливо побранила Винсента за его недоброе мнение о нас всех и попрощалась с нами, любезная, как всегда, и притворяясь более веселой, чем обычно.
Ах, сэр, если бы я приложил
к изучению какого-нибудь полезного
дела хоть половину того усердия, с
которым обучался быть мошенником,
то был бы теперь богачом. Но хоть я
отъявленный негодяй, я все же могу
оказаться вам другом и, может быть,
как раз тогда, когда вы меньше всего
будете этого ожидать.
«Векфилдский священник»
Среди всех волнений, связанных с неопределенностью моих политических расчетов, в том постоянном водовороте, в котором я жил, и прежде всего от неблагоприятных для моей belle passion[824] обстоятельств, здоровье мое опять сдало: я потерял аппетит, утратил сон, под левым глазом у меня залегла глубокая морщинка, и матушка заявила мне, что таким я ни у какой богатой наследницы успеха иметь не буду. Все это вместе взятое возымело свое действие, и однажды утром я отправился в Хэмптон-корт подышать деревенским воздухом.
Порою бывает очень приятно повернуться спиной к большому городу именно тогда, когда там самый разгар веселья. На короткое время мизантропия — если она продолжается недолго — просто пленительное чувство: вдыхаешь полной грудью сельскую жизнь и поносишь городскую, ощущая при этом некое меланхолическое удовлетворение. Я обосновался в хорошеньком маленьком домике на расстоянии мили от города. Из окна гостиной я мог упиваться роскошным зрелищем, созерцая трех свиней, одну корову и солому под навесом. До Темзы можно было добраться за пять минут напрямик по тропке мимо печи для обжига извести. Не часто мы получаем сразу столько приятных возможностей наслаждаться красотами природы, поэтому можете быть уверены, что я извлек из них все. Я вставал рано, гулял перед завтраком pour ma santé[825] и возвращался домой с основательной головной болью pour mes peines.[826] Я читал часа три, гулял еще два и до обеда думал об Эбернети, диспепсии, синих пилюлях, совершенно забыв о лорде Доу-тоне, честолюбивых мечтаниях, Гьюлостоне, эпикурействе, да обо всем, кроме… конечно, читатель догадывается, кого я намереваюсь исключить, — кроме властительницы моего сердца.