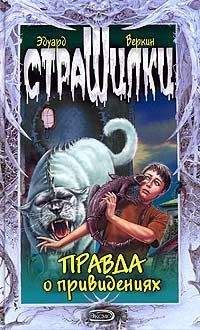Сколько же они времени упустили, сколько потратили зря? Саша засыпает, прижимаясь спиной к груди Вани, через тонкую ткань его футболки на себе чувствуя жар его тела — просыпается она, когда за окном небо сереет, в том же положении, только его ладонь на ее животе, и пониже поясницы недвусмысленно давит. Утро, как ни крути. Она бы могла сейчас встать и уйти, могла бы просто отказать ему, и знает, что он бы убрал руки тут же, но для этого надо захотеть. Она не хочет, чтобы он убирал руки. Она не хочет, чтобы он оставлял ее в покое. Что она хочет, так это прижаться бедрами к его бедрам, поймать его руку за запястье, направляя ниже, под тонкую ткань собственного белья. Когда он несмело касается ее там, почти лихорадочный выдох сдержать не получается. Наверное, не получилось бы, даже если бы она пыталась. Он переворачивается на спину, тянет ее на себя, спиной на своей груди ее устраивая, другой ладонью задирает на ней футболку, обхватывая ее грудь, и когда его пальцы оказываются внутри нее, от стона останавливает ее только то, что за стеной, скорее всего, еще спят его родители. Достаточно приподнять бедра совсем немного, чтобы позволить ему стянуть с себя боксеры, с собственными трусиками приходится помучиться немного дольше — Саша закусывает запястье от первого же толчка, чтобы не простонать в голос. Этого ей тоже не хватало, не меньше, чем его поцелуев и его тепла рядом. Это ей нужно было не меньше.
Тетя Лена все равно улыбается так, как будто все знает, когда они, собравшиеся наскоро — времени на более долгие сборы не осталось, это они поняли, когда, пытаясь отдышаться, глянули-таки на часы — забегают на кухню, чтобы хотя бы на ходу перекусить. Саша подозревает, это не в последнюю очередь из-за красных следов — будут темными потом — на ее шее. Ваня ее ладонь тянет к губам на каждом светофоре, который они не успевают проскочить до того, как загорится зеленый, но когда они подъезжают к ее университету, пара уже минут пять как идет.
— Не хочу на философию, — вздыхает Саша, тянется к ремню безопасности, чтобы его отстегнуть. Ваня улыбается так, будто знает что-то, чего не знает она.
— Философия — такая фигня, зай, — заявляет он, целует ее почти около уха, мочку губами задевая, и улыбается так, что от этого внутри все переворачивается. — Там будет что-то важное?
— На философии?
Смеются они вместе. Ну да, еще чего, что-то важное для ее будущей профессии на философии. Менее важного предмета ей в голову даже не приходит вот так, сразу. Может, если призадуматься, она и вспомнит, но не сейчас.
— Ты прав, — заявляет она, отсмеявшись. Номер Маши найти несложно, написать ей сообщение с просьбой отметить ее — еще легче. Все, дальше пусть хоть звонят до посинения, ей плевать — телефон Саша кидает обратно в сумочку, прежде чем Ваню поцеловать снова. Только, думает она, ремень все-таки надо отстегнуть. Мешает.
А утро, определенно, удалось. Почему бы каждому не начинаться подобным образом? Нет, допустим, это она размечталась, а все же? До следующей пары остается минут, наверное, пятнадцать — Ваня даже успеет доехать до своего универа, если не будет слишком много останавливаться на светофорах — когда она его целует в последний раз за это утро и выпрыгивает из машины, поправляя на себе футболку, безнадежно смятую. Маша не спрашивает ее, где ее носило, когда появляется возле аудитории по информатике — Маше, как понимает Саша, пришлось бы почти всю группу спрашивать.
Нет, ну она бы, конечно, ответила, только не факт, что ее искренний ответ кто-то хочет услышать, и не факт, что перешептываться не начнут. Так что фиг бы с этими незаданными вопросами, сейчас даже ребята ни о чем не спрашивают, только красноречивые короткие взгляды кидают на ее шею. Плечи закрыты, о них беспокоиться не стоит, и от этого немного легче. Информатику пропускать не стоит, чревато, и поэтому она почти сразу же, игнорируя все, утыкается взглядом в монитор. Не все — Нейт просит воды, она, не глядя, из сумки достает бутылочку и ему протягивает, привычно-шутливо и как обычно пробурчав «свою с собой носи», Игорь, сидящий с другой стороны от нее, в какой-то момент тайком тянет ей свои конспекты, видя, что она не врубается особо, что вообще от нее требуется. Расспрашивать ее никто ни о чем явно не собирается — и правильно. И не надо. Это их личное дело, и то, что остальным можно видеть, они видят. Что не видят — и не надо.
Ладно, ребятам она бы все равно рассказала, если бы они спросили. В конце концов, это ведь ее друзья. Они делятся с ней всем, и она вовсе не против отвечать им тем же.
Подругой ей была и Настя, сидящая на скамейке у входа, встающая, чтобы поцеловать и обнять Гришу, когда они выходят из корпуса, но не уходящая никуда — ее ждет. Саша догадывается по сжатым плотно губам, по направлению взгляда, да по всему. Кулон поверх одежды висит, почти демонстративно, почти вызовом — только люди вокруг не знают, что это значит, иначе, может быть, так и восприняли бы. Мир не знает о них, о их силах, иначе они давно бы не имели права жить спокойно. Только вот ведьмам именно это и нужно — спокойствие. Общение с природой, общение с Матерью, и неспешное течение жизни. Люди не знают о них — для них кулон Насти всего лишь украшение. Может быть, какой-то фандомный знак, как многие носят. Вряд ли большее. Ее собственный кулон — под футболкой, будто греет. Знак принадлежности. Знак того, что в чем-то они одинаковые. Того, что Настя была ей долгое время подругой.
Останется ли ей?
— Ты на меня очень сердишься?
Саше хочется фыркнуть от этих слов, но не от потерянности в них, в самом тоне, которым они произнесены. Неужели Насте это правда важно? Неужели она себя плохо чувствует сейчас, не тогда, когда решила им не говорить? Это ее последняя неделя тут, осознает Саша, даже меньше — они улетают послезавтра, не дождавшись и конца недели — и ей бы сейчас проводить время в поддержке, не в постоянном холоде, собственном холоде, возвращаемом ей другими. Они все одинаковы в этом, все поддержат и помогут и будут рядом, когда это будет надо, но попросят взамен их не предавать. То, что Настя сделала, все равно что предательство.
— Ты хорошо выглядишь, — заявляет она в ответ, голову набок склоняет, Настю рассматривая. И стрижка не новая, и все, что на ней надето, Саша видела уже не раз, но почему бы и не полюбоваться? — Тебя наверняка примут за какую-нибудь фэшн-модель, если ты так будешь ходить на пары.
— Издеваешься?
— Ни за что. Мы же были подругами.
Нет никакого удовольствия в том, чтобы видеть, как бледнеет Настя стремительно, как подбородок вздергивает в неуклюжей попытке сохранить лицо, и как в глазах ее почти прозрачных на мгновение мелькает что-то похожее на боль. Наверное, так же она выглядела бы, если бы Саша ей пощечину дала. Она не стала бы, но какая теперь разница?
— Были, — повторяет Настя, тянет это слово, будто пытается его распробовать на вкус, и морщится так, будто вкус этот ей не нравится. — Значит, сердишься. Значит, больше не хочешь иметь со мной ничего общего.
— Не надо перекладывать на меня это решение, — Саше хотелось бы, может быть, улыбнуться, но губы растягиваются только в болезненной гримасе. Ей тоже нелегко дается этот разговор. — Ты его приняла. Ты решила нам не говорить. О какой дружбе тут может быть речь, Насть, если ты не о каких-то мелочах молчишь, а о чем-то настолько масштабном, и говорить не собираешься?
— Я думала, тебе старшие скажут…
— Почему кто-то должен говорить за тебя?
Слишком много вопросов, на которые она вряд ли дождется ответов. Настя губы поджимает так, будто обиделась. Ей ли обижаться?
— Я хотела уехать, и я уезжаю. Я должна оправдываться за свои желания?
Саша дышит сквозь стиснутые зубы медленно, чтобы не взорваться. Почему ей приходится снова повторять то же самое, но уже не с Гришей? Почему так сложно все?
— Я рада, что твои мечты исполняются, — выдавливает она, наконец, когда голос снова слушается. — Но если мы были твоими друзьями, тебе не кажется, что мы заслуживали знать от тебя, а не от чужих людей? Что ты могла хотя бы поставить нас в известность о своем решении?