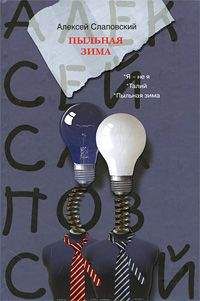Ознакомительная версия.
Обычно я – Генка тоже – взбираемся на свой пятый этаж армейским физзарядным бегом. Это когда руки согнуты, ладони сжаты в кулаки, а колени ног подкидываются как можно выше. Между прочим, когда дела в порядке – план выполнен, начальство не рычит, а люди, которых ты возил, остались по-хорошему в памяти, то ступеньки лестницы преодолеваются так, будто ты несешься по прямой. В этот раз я добежал только до второго этажа, а дальше пошел шагом: хотелось сладить с каким-то царапным зудом в сердце от этой своей встречи с пенсионерами.
Я решил сразу же вымыть пол в комнате. Он тогда часа два будет отдавать прохладой, и по нему захочется походить босиком и припомнить что-нибудь веселое. Генкина постель была не прибрана – на ней будто собаки дрались, и я мысленно посулил ему что полагалось, заправил ее и под подушкой обнаружил часы, – забыл, как всегда, – и новую толстую тетрадку в дерматиновой обложке. Я протер мокрой тряпкой пол, открыл окно, чтобы он поскорее просох, а после этого заглянул в тетрадку: было бы ни к чему, если бы Генка перед самым отъездом сочинил что-нибудь грустное.
Мне всегда было трудно и обидно читать его, почерк – слепой, мелкий и тесный, как мушиный помет на скатерти. Каждая буква заключена у него в квадрат клетки как в карцер: сидит там маленькая, загнанная, детдомовская какая-то, черти б ее взяли! То же самое было и в этой тетрадке, – даже свое имя и фамилию на заглавном листе Генка не решился вывести покрупней, и я взял ручку и на две клетки подтянул буквы вверх.
На второй странице все в тот же мушиный след было написано: «Я был малыш, голым-голыш и всем чужой, но вот поди ж: чудак прохожий подарил мне как-то бубен. В него ударил я рукой, притопнул босою ногой, и шаг мой сделался танцующе-нетруден. Однажды в город я пришел, в нездешний город я пришел, в далекий город привела меня дорога. Направо дом, налево дом, а я с растерянным лицом, и на душе моей – то радость, то тревога. А этот город был такой лазурно-сине-голубой, что захлестнул меня, как праздник бесконечный. Я где-то бубен уронил, свою дорогу позабыл и горожанином стал сытым и беспечным. С тех пор прошли уже года, но я мечтаю иногда: вот если б кто-нибудь мне снова вверил бубен! В него ударю я рукой, притопну босою ногой и не расстанусь с ним ни в праздник и ни в будень!..»
Ничего веселого в этой новой Генкиной песне не было. Под ее слова в уме сам собой складывался какой-то босоного-чечеточный мотив, напоминающий о нашем беспризорстве. А кому это нужно? И кто это нас одаривал бубном-радостью? Когда? Где?… Разве что тот лейтенант-мальчишка, который подарил нам губную немецкую гармошку? Но ему ведь жалко было отдавать ее, он же сам чуть не заплакал… Мы повстречались с ним после того, как нас прогнал с товарного поезда проводник, у которого росла в кармане брюква. Тогда до утра мы просидели возле деревянного прирельсового склада. Он, видать, недавно был построен, потому что на желтых досках шелёвки проступали совсем мягкие смоляные сосульки. Мы поснимали их и съели, и мне ничего не было, а у Генки заболел живот. Я оставил его возле склада, а сам побежал на привокзальный рынок-толкучку и у сидячей старухи-торговки схватил из решета два коржика. Они и в Одессе, и тут стоили по трояку штука и были маленькие, шестиугольные, формованные граненой стопкой. Зацапал меня милиционер – тут же, сзади, за шею, но коржики я потерял позже, когда меня били та моя и чужие торговки. Они били небольно, потому что мешали друг другу, но милиционер не отпускал шею, и тычки приходились мне в голову. Вот тогда и появился в нашей сутолочи этот лейтенант-мальчишка и скомандовал: «Назад, канальи!» Может, он выкрикнул только начальное слово, а второе – «канальи» – мы с Генкой присочинили ему сами, позже, потому что так хотелось, но все же он скомандовал, и я оказался в свободном круге наедине с милиционером. Он не отпускал мою шею потому, что не знал еще, что лейтенант – в самом деле лейтенант, а не солдат: это выяснилось после того, как милиционер крикнул ему: «А ну, давай отсюда!» Тот почему-то пригнулся, откинул с правого плеча плащ-палатку и обнажил пистолет. Тогда и обозначился на его плече зеленый полевой погон с двумя звездочками. У лейтенанта скосились глаза, а нос побелел, как бумага; он двинулся ко мне и милиционеру молча, клонясь вперед, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если б милиционер не спрятался в толпе торговок.
После этого мы с лейтенантом пошли с толкучки. Он тоже обхватил рукой мою шею, но не для того, чтобы держать меня, а просто так, как старшой меньшего, и от этого я заплакал. Генка заметил нас и побежал прочь от склада. Он попросил лейтенанта издали, чтобы тот отпустил меня, потому что у нас всех поубивали румыны, а мы спрятались и остались живы. Лейтенант остановился и сказал: «Ах ты черт!», а я крикнул Генке, чтобы он не боялся своих. Мы признались лейтенанту, откуда бежим, но куда – не знали, и он опять сказал: «Ах ты черт!» – и дал мне большую красную тридцатку, а Генке – не сразу, а немного погодя – подарил губную гармошку. Он посоветовал нам «рвать на Москву, там вас подберут, кому надо», а сам все поглядывал и поглядывал на Генку, сцепившего сияющую как огонь гармошку…
Вот и все насчет «бубна-радости». Может, Генке и следовало написать об этом песню, но не о тоске по беспризорству, будь оно проклято, а о лейтенанте, который навсегда остался в нашей памяти большим героем-мальчишкой, крикнувшим торговкам: «Назад, канальи!» Милиционеру он тоже мог что-нибудь сказать в песне. Например: «Ты чем тут занимаешься, мерзавец!»
Обо всем этом я решил поговорить с Генкой завтра, в поезде. Мы, наверно, возьмем не две, а три бутылки шампанского и будем пить его долго и спокойно – отхлебнем и поставим, отхлебнем и поставим…
Пол к тому времени просох. Я закрыл окно, обернулся спиной к зеркалу и под слова «Бубна» сплясал чечетку – босой и с голосом на крике, как бывало в детдоме. Кто меня мог видеть и слышать тут?
Вечером я стал готовиться в дорогу. Мне хотелось, чтоб не только чемоданы, но и все на нас было одинаковое – куртки, галстуки, носки и даже трусы. Со своим личным хозяйством я управился быстро, – у меня все годилось хоть на свадьбу, но с Генкиным было трудней. Я никогда не мог постичь, почему его носильные шмотки сразу же приобретают – не только на нем, но и в шкафу – какой-то убедненный и стушеванный вид. Одно время я думал, что причина тут кроется в качестве вещи, – дешевка, она и есть дешевка, как ее ни блюди, но мы ведь давно уже покупаем себе все одноценное, и просто непостижимо, отчего, например, у его импортных ботинок так скорбно-нелепо скосоротились носки; почему у нейлоновой рубашки – такой же, как у меня, – концы воротничка бесповоротно-сгибло завернулись внутрь и чего ради его шерстяной берет – одной поры и цены с моим – разлохматился, как бездомный щенок! Дело тут не в уходе за вещью и не в степени ее износа, а в чем-то другом, необъяснимом, непонятном и ненужном: все принадлежащее Генке рано или поздно становится чем-то похожим на него самого, когда ему плохо. Он тогда превращается в безгласный крик о том, что у нас всех поубивали, а мы спрятались и остались живы, но тот, кому он кричит это, глух и слеп, и ресницы у Генки пушатся и встают дыбком, и весь его облик выражает примерно такое – «Вот-вот явится!». Что явится, почему – неизвестно. В таких случаях мне всегда становится обидно за себя и тревожно за Генку, и у нас происходят короткие беседы, похожие на стычки, и при этом мы не садимся, а стоим, – Генка должен знать и помнить, что во мне метр восемьдесят взрослой силы!..
Часам к десяти я закончил все приготовления. Генкины брюки я выгладил с нажимом всего своего веса на утюг, а в ботинки набил бумаги и поставил их на середине комнаты, чтобы они побыли у меня на виду. А вскоре явился Генка. По тому, как он открыл дверь и взглянул на меня, я понял, что с ним что-то случилось. Я подумал об аварии и спросил, где машина. Он сел на мою койку и ознобно сказал:
– Во дворе. Там деревенская женщина…
– Ну и херувим с ней! – сказал я. – Она, надеюсь, не укусила тебя?
– Она везет домой мужа из морга, – сказал он, не шевелясь и не моргая. – В оба конца около ста километров… Может, поедем вместе, а? Они сзади сидят.
– Как сидят? – не понял я.
– Прямо, – сказал Генка. – Он без внутренностей. Их у мертвецов в моргах выбирают для учебы студентов…
– Ну и пусть! – крикнул я. – Какое это имеет значение?
– Все же… одну только оболочку повезем, – страшно сказал Генка. Как укольная боль, меня пронизало почти непреодолимое желание ударить его: он не смел, не должен был ввязываться в это ненужное для нас дело – калымить на перевозке мертвецов в такси, но раз тот уже сидит там…
– Она два дня искала подводу или машину, – сказал Генка. Вид у него был «вот-вот явится». – Говорит, просят восемьдесят, а у нее всего сорок три с копейками…
– Ну и что? И повезем, раз взялся, – сказал я. – Подумаешь, развел сантименты! Дорогу знаешь?
Ознакомительная версия.