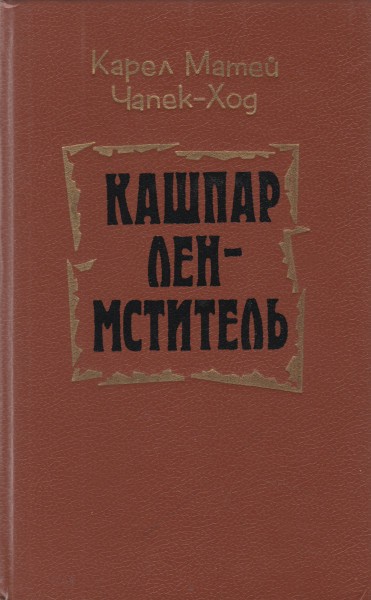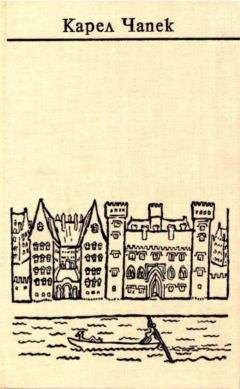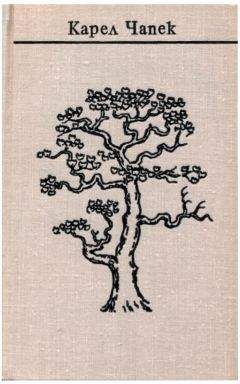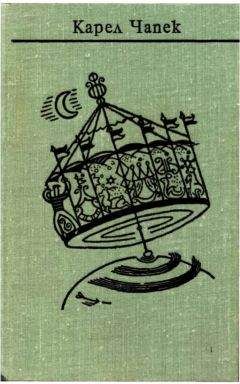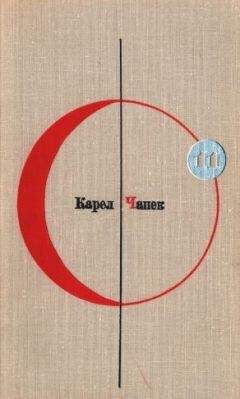нее какие-то права.
Она недвусмысленно, яснее ясного дала ему это понять уже вечером следующего дня, когда они с Завазелом вернулись со свой «каторги» и когда Коштял, только и думавший что о вчерашнем, улучил подходящую минуту.
С самого утра заладил дождь, превратясь, пока они возвращались домой, в настоящий ливень. Завазел, склонный к простудам, первым делом поспешил переодеть рубаху. Зато Коштял, хотя тоже вымок до того, что пар от него клубился, к себе наверх не пошел, а, углядев во дворе Маришин возок, одним прыжком очутился у дверцы, ведущей в дровяник под лестницей.
Она и вправду была там, да и где же еще, коль укладывала свои короба и лотки. Не теряя ни секунды, вторым прыжком он уже был рядом, вероломно обхватил ее сзади, так, что через промокшую блузку почувствовал в своих ладонях ее соски, и впился алчными губами в шею.
В то же мгновение она двинула локтями ему под ребра, раз и другой, да так резко, что он аж задохнулся, и, слегка шевельнув своим корпусом, стряхнула его с себя, словно пушинку.
Разъяренной львицей стояла она против него.
— Прими руки! — раздался рык, так хорошо знакомый псу Тигру, что тот по привычке, поджав хвост, сразу забился в угол.
Коштял, заикаясь, что-то промямлил.
— Не желаю, и все тут! — рявкнула она в страшной ярости, неожиданно накатившей на нее.
— А как же вчера, наверху? — совсем уж глупо пробормотал Коштял.
— Вчерась наверху? Он мне ишо напоминать буде! — дико, пуще прежнего, взвизгнула Мариша, но тотчас сбавила голос и уже сокрушенно, с видом кающейся грешницы продолжала: — Была я седни утре в божьем храме. У капуцинов. Преподобный отец Каэтан сперва даже не хотели отпускать мне грехи, тепере, чтоб искупить, надоть идти ажно в Велеград, а там от главных храмовых врат ползти на коленях к главному алтарю. Сраму сколько, ить кажна баба знает, за какой грех такое покаяние. Отец Каэтан сказали мне, что лучше бы уж я дала вам повеситься, ето, мол, все козни дьявола, а вовсе не доброе дело, как я думала.
Коштял стоял окаменев.
— Ну что вы тут торчите, как соляной столб? Чего вам ишо надоти, срамник етакой! Подите-ко лучше повесьтесь!
Коштял и впрямь обратился в соляной столб.
Мариша умолкла, но не совсем. Она издала еще какой-то звук, какое-то неразборчивое протяжное междометие, вырвавшееся глубоко из горла, что-то вроде «Э-эх‑э!», при этом рот у нее широко раскрылся и язык высунулся чуть не до подбородка.
Коштял повернулся и побрел прочь, да нет, скорее уполз, как тот Тигр.
Но вновь настали хорошие времена, а с ними и бесконечная череда ведер и леек, которые нужно было носить из колодца, в иные поры — благодаря близости реки — полного до краев, сейчас же, в июльскую жару, изо дня в день скудеющего. Сдавалось, вода уходит все глубже в земные недра, и Коштялу доводилось туго, да и таскал он ведра теперь один, Мариша и не думала, как раньше, в начале идиллии, помогать ему. Надо было не только начерпать вдоволь воды, но и разнести ведра по всем грядкам и клумбам.
Доставалось ему порядком, особенно, если учесть, что весь день приходилось шлифовать рельсы, но Коштял сносил кабалу, как Иаков, добивающийся Рахили.
Конечно, всякие навещали его мысли, а среди них и такие, от которых ходил он туча тучей. Но туча эта не разражалась ни ливнем, ни молнией. Он был совершенно сбит с толку.
Такое, как у него с Маришей, не выпадало, наверное, и одному из ста, и чем больше ломал он над этим голову, тем больше стыдился себя. Он без оглядки поверил в то, что Мариша ходила на исповедь, и даже удивился бы, не сделай она этого на другое же утро, поверил и тому, что свое прегрешение Мариша оправдывает добрым умыслом — мол, хотелось отвратить его от самоубийства, но чем дальше, тем больше убеждался, что таким образом она сначала понадеялась обмануть себя, потом — отца Каэтана, а вдобавок и самого Господа милосердного. Истинной же подоплекой ее порыва — и тут она, возможно, лукавила даже перед собой — было желание сохранить дешевую рабочую силу, помешать ему уйти. А душу она потом легко отмоет в жаркой бане святого раскаяния. Добавив щепотку доброго умысла.
И все же не покидала его надежда, что греху своему она предалась и душой, и телом.
Такие вот думы точили его, но он таил их в себе и лишь работал как вол.
А что же Мариша? Для нее будто тех роковых трех дней и не было вовсе, будто между ними не произошло ничего такого, о чем бы стоило говорить. Уже на четвертый день она держалась как ни в чем не бывало, была веселой, говорливой, из нее так и сыпались всякие забавные истории про деревню и рынок, толковала и о делах насущных — где что будет сажать, где сеять, и эти хлопоты доставляли ей больше всего веселья.
Стоило ей сказать, что редиску надобно удобрять получше, не то будет пустой, ее тотчас разбирал смех, да такой, что груди тряслись. И все это у него на глазах, и то сказать — ведь ради того и заливалась хохотом, чтоб он поднял голову.
А когда он это делал, смех умолкал, и Коштял ловил ее любопытный взгляд, такой испытующий, будто той встречи на чердаке и в помине не было.
Наверняка все это ее забавляло, наверняка ей хотелось поизмываться!
Она стояла над ним, заправляя в юбку выбившуюся во время работы кофту, из-под которой виднелась полоска кожи, такой же белоснежной, как и в вырезе, идущем от шеи к груди. Иногда, уже к вечеру, она скалывала его булавкой, но Коштялу было от того не легче.
Стиснув зубы, — так, наверное, частенько делал тот рыцарь из древнегерманской хроники, — он изо всех сил держался, чтоб ни единым жестом не выдать себя.
Завазел, пользуясь своей немочью, валялся под сливами и храпел на весь сад. Но когда внизу на грядках начиналась возня больше обычной, он тут же приподымался, стараясь рассмотреть их сквозь кусты. Время от времени и на четвереньки ради удобства приседал, но вскорости снова укладывался, хотя больше при этом храпел, нежели спал, а если и спал, то как заяц, с открытыми глазами...
Наступил Духов день.