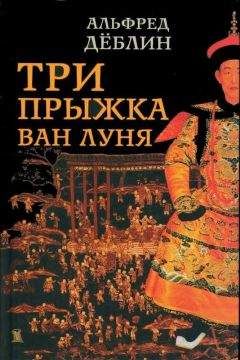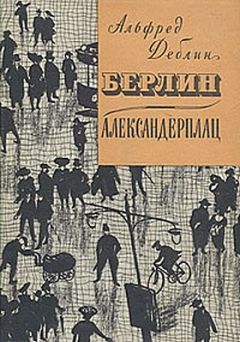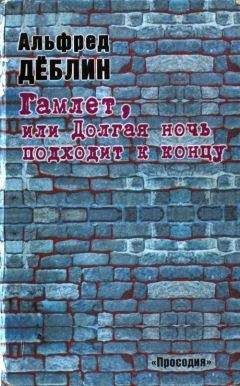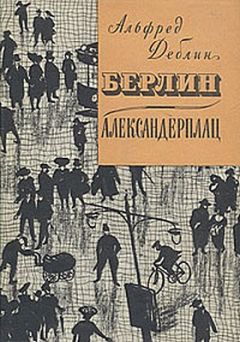теперь убирайся со стола, раз ты такой неуч». – «Что это были бутерброды с сыром, я и сам по запаху слышу. Да только откуда они у тебя?»
Но Франц, с зардевшимися ушами, уже на ногах; те, там за столом, – тоже, и вот Франц хватает свой столик, опрокидывает его, и новенький – хлоп на пол вместе с тарелкой, пивной кружкой и горчичницей. Тарелка – вдребезги. Геншке этого уже ожидал, топает по осколкам, орет: «Стойте, стойте! Чтоб у меня драк не было. У меня в заведении драться не полагается. А кто бузит, тот моментально вылетит вон». Долговязый парень успел подняться – отстраняет хозяина. «Отойдите-ка, Геншке. Драки у нас не будет. Мы только немножко посчитаемся. А если кто-нибудь что сломает, он должен заплатить, и дело с концом». Я сейчас уступил, думает Франц, прижавшись к самому окну, перед жалюзи, но теперь я пойду крушить, только бы меня не задели, черт возьми, только бы не тронули; я всем желаю добра, но быть беде, если только кто-нибудь из них сморозит глупость и заденет меня.
Долговязый тем временем подтягивает штаны, ага, значит, собирается начать. Франц уже видит, что произойдет дальше, но как теперь поведет себя Дреске? А Дреске стоит себе и глазеет. «Орге, да что это у тебя за паршивец? Откуда ты такого сопляка выкопал?» Долговязый возится со своими штанами, спадают они, что ли, так пусть пришьет себе новые пуговицы. Долговязый костит хозяина пивной. «Им все можно. Фашистам рот не затыкают. Что бы они ни брехали, они пользуются у нас свободой слова». А Дреске размахивает где-то позади левой рукой. «Нет, Франц, я в это дело вмешиваться не буду, расхлебывай сам, что ты себе заварил своими поступками и песнями, нет, я вмешиваться не буду, этого еще не хватало».
Несется клич, как грома гул, ах, это та песня, которую он тогда на дворе, и вот люди хотят осквернить ее, хотят рассуждать.
– Фашист, кровопийца! – рычит долговязый, наступая на Франца. – Давай сюда повязку! Ну, живо!
Вот оно, начинается, это они хотят вчетвером на одного, надо прислониться спиной к окну и прежде всего вооружиться стулом. «Давай повязку, тебе говорят! Не то я сам вытащу ее у тебя из кармана. Я требую, чтоб этот субчик выдал повязку». Другие за ним стеной. У Франца в руках стул. Удержите-ка прежде всего вон того. Удержите, понимаете! А потом уж я и сам уйду.
Хозяин обхватил долговязого сзади и умоляет: «Да уходите вы! Биберкопф, уходите отсюда, сейчас же!» Это он боится за свое заведение. Стекла-то, вероятно, не застрахованы, ну что ж, мне плевать. «Ладно, ладно, Геншке, пивных в Берлине сколько угодно, я ведь только поджидал Лину. Но почему вы только на их стороне? Почему они выживают человека, когда я каждый вечер сижу у вас, а те двое только в первый раз здесь?» Хозяин, напирая на долговязого, заставил его отступить. Другой из новых, отплевываясь, кричит: «А потому, что ты фашист! У тебя и повязка в кармане. Хакенкрейцлер [242] ты, вот что!»
«Ну так что ж? Фашист и фашист. Я Орге Дреске все объяснил. Что и почему. А вы этого не понимаете, потому и орете». – «Нет, это ты орал, да еще Стражу на Рейне». – «Если вы будете скандалить, как сейчас, да садиться на мой столик, то таким путем никогда не будет покою на свете. Таким путем – никогда. А покой должен быть, чтоб можно было работать и жить, рабочим и торговцам и вообще всем, и чтоб был порядок, потому что иначе нельзя работать. А чем же вы тогда будете жить, вы, горлопаны? Вы же сами пьянеете от своих речей! Вы же только и умеете, что скандалить да зря будоражить людей, пока те и взаправду не обозлятся и не накостыляют вам шею. Кому, в самом деле, охота, чтоб вы ему на мозоль наступали?»
И вдруг он тоже разгорелся, что это с ним поделалось, так и сыпет словами, словно у него что-то прорвалось, и перед глазами плывет кровавый туман: «Ведь вы же преступники, вы сами не знаете, что делаете, эту дурь надо бы у вас из головы повыбить, не то вы весь мир погубите, смотрите, как бы вам не пришлось плохо, живодеры, мерзавцы!»
В нем все так и бурлит, ведь он сидел в Тегеле, жизнь – страшная штука, ах, что за жизнь, тот, о котором поется в песне, это знает, и как мне жилось, Ида, нет, лучше не вспоминать.
И он орет и орет под впечатлением этого ужаса, что это тут открывается? Он отчаянно отбивается руками, ногами, надо кричать, надо заглушить это криком. В пивной стон стоит, Геншке остановился недалеко от Франца у столика и не рискует подойти к нему ближе, а тот стоит себе, орет во все горло, все вперемежку, захлебывается: «Так что вы мне ничего и сказать не смеете, никто не может подойти и сказать, никто, потому что мы сами все это гораздо лучше понимаем, не для того мы побывали на фронте и валялись в окопах, чтоб вы тут травлей занимались, смутьяны, надо, чтоб был покой, покой, говорю я, и зарубите у себя на носу – покой, и больше ничего (да, в этом все дело, вот мы и приехали, это уж тютелька в тютельку), а кто теперь желает делать революцию и не давать покою, так тех надо повесить, хотя б на целую аллею (черные столбы, телеграфные, длинный ряд по Тегелершоссе, я-то уж знаю), тогда поймете, когда будете болтаться на столбах, тогда, небось, поймете. Так вот, запомните это и поймите, что вы делаете, преступники. (Да, таким образом будет покой, так они угомонятся, это – единственное средство, и мы до этого еще доживем.)»
Бешеный, оцепеневший – наш Франц Биберкопф. Он в ослеплении выкрикивает слова охрипшим горлом, его взгляд застеклился, лицо посинело, вспухло, руки горят, он брызжет слюною, словом – человек не в себе. И при этом пальцы судорожно вцепились в стул, но он только держится за стул. А вдруг он сейчас возьмет стул и начнет им громить направо и налево?
Внимание, промедление опасно, р-р-разойдись, заряжай, огонь, огонь, пли.
При этом человек, который стоит тут и орет, видит себя самого, слышит себя, но как бы издалека [243]. Дома, эти дома опять хотят обрушиться, а крыши вот-вот соскользнут на него, но нет, не бывать этому, пускай лучше и не пробуют, все равно им, преступникам, это не удастся, нам нужен покой.
В нем