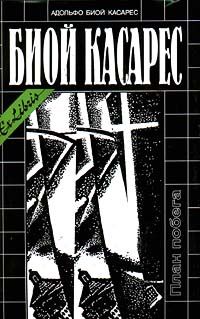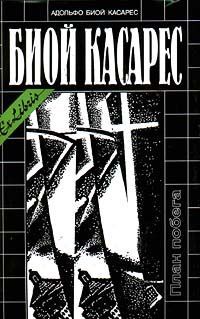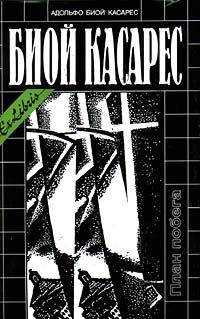числа и чьей нищете нет предела». Мы подадим пример, и наш труд получит всеобщее признание. Мы обязаны спасти стадо, за которым надзираем, от его судьбы.
Кастель сделал целый ряд двусмысленных, внушающих тревогу заявлений, но единственным, что взбудоражило моего племянника, было упоминание о «стаде». Это слово возмутило его настолько, что он словно очнулся, уверяет Неверс. Губернатор добавил:
– Полагаю, что наш труд, труд тюремщиков, может быть весьма благодарным.
– Всем бы тюремщикам так рассуждать, – прошептал Неверс с осторожностью, но тут же повысил голос: – Если бы можно было что-нибудь сделать…
– Я думаю, сделать можно. А вы?
Неверс не удостоил его ответом.
Позднее вспомнил, что намеревался попросить разрешения посетить Чертов остров. Но губернатор уже ушел.
VIII
Неверс ходил по берегу против Чертова острова. Тайная цель: присмотреть причал для секретной (и невероятной) высадки. Менее опасно (и более неосуществимо) было бы открыто посетить Кастеля.
Он не глядел по сторонам, и Бернхейм появился из-за скал, подкрался сзади. Неверс даже не вздрогнул: перед ним тот же взгляд побитой собаки. Бернхейм попросил, чтобы они спрятались в скалах. Неверс согласился.
– Моя интуиция меня не подводит! – воскликнул Бернхейм. – Я знаю, когда можно доверять человеку.
Неверс его не слушал. Скромное, а все же откровение: он ощущал в Бернхейме неприятное противоречие между высокомерным тоном и печальным взглядом. Но вопрос все-таки уловил.
– Вы – игрушка в руках Кастеля?
Ответил отрицательно.
– Я так и знал! – крикнул Бернхейм. – Мы почти не знакомы, но я открою вам тайну, которая отдаст мою судьбу в ваши руки.
На высоких утесах, метрах в двадцати над ними, появился Дрейфус. Кажется, не заметил их и удалялся, глаз не сводя с какой-то точки посреди бескрайнего моря. Желая избавиться от одержимого, Неверс сказал:
– Вон там Дрейфус, – и стал карабкаться по скалам.
Увидев его, Дрейфус вроде бы не удивился; некоторое время они шли рядом, потом еврей спросил:
– Видите эту башню?
Башня стояла на Чертовом острове: бревенчатая, выкрашенная в белый цвет, метров восьми высотой, она завершалась платформой. Неверс поинтересовался, для чего она служит.
– Ни для чего, – вздохнул Дрейфус. – Для того, чтобы одни помнили историю, а другие насмехались над ней. Ее выстроил губернатор Даниэль в 1896 или 1897 году. Поставил наверху часовых, которые караулили денно и нощно, и пушку Гочкиса. Попробуй капитан сбежать – огонь!
– Капитан Дрейфус?
– Да, Дрейфус. Хочу, чтобы вы знали: оттуда весь архипелаг как на ладони.
Неверс спросил, не в родстве ли он с тем самым Дрейфусом.
– Не имею чести, – сообщил тот.
– Дрейфусов много.
– Я этого не знал, – произнес еврей. – Мое имя Борденав. Дрейфусом меня прозвали, заметив, что я твержу постоянно о капитане Дрейфусе.
– Как и все наши писатели.
– Правда? – Дрейфус широко раскрыл глаза и удивленно улыбнулся. – Если вы желаете увидеть маленький музей капитана…
Неверс последовал за ним. Спросил, родился ли он во Франции. Он родился в Южной Америке. Потом они осмотрели «музей» Дрейфуса. То был желтый фибровый чемодан, содержащий конверт, в котором пришло письмо госпожи Лусии Дрейфус губернатору Даниэлю; рукоятка перочинного ножа с инициалами Ж. Д. (Жак Дрейфус?), несколько мартиникских франков и книга «Был ли Шекспиром мистер Бэкон, или наоборот?» Новуса Овидиуса, автора «Чувственных Метаморфоз», члена Академии Медалей и Надписей.
Неверс собрался уходить. Дрейфус заглянул ему в лицо, остановил его и спросил:
– Вы не думаете, что Виктор Гюго и Золя – самые великие люди во Франции?
Неверс пишет: «Золя – понятно, он написал «Я обвиняю» [33], а Дрейфус одержим Дрейфусом. Но Виктор Гюго… Человек, который для пылкого преклонения выбирает в истории Франции, более богатой генералами, чем самая неразличимая на карте южноамериканская республика, двух писателей, достоин, по совести, пусть даже беглой похвалы».
IX
Ночью двадцать второго он не мог заснуть. Бессонница придала огромную важность признанию Бернхейма, которое Неверс не захотел выслушать. Он смутно страшился какой-то кары за то, что не стал слушать арестанта. Вымотанный, возбужденный, решил немедленно посетить красный барак. Усилием воли отложил это до утра. Прикидывал в деталях этот немыслимый визит: как заставит себя после бессонной ночи проснуться пораньше, как начнет говорить с Бернхеймом, как намекнет на предыдущую встречу. На рассвете Неверс уснул и видел сны. Во сне он опять уезжал из Сен-Мартена, снова страдал от разлуки с Ирен, и это страдание изливал в письме. Помнил первую фразу: Я уступил, я расстаюсь с Ирен; люди, которые могут помешать… Дальше помнил только смысл, примерно такой: люди, которые могли бы помешать его возвращению, уверяли, будто мешать не станут. Последней фразы не забыл (говорит, что во сне она казалась неопровержимой; подозреваю, что в своем сумеречном бдении он попал в самую точку): поскольку причин для разногласий нет, боюсь, мне уже не вернуться, не увидеть вновь Ирен.
Утром Дрейфус принес ему два письма – одно от Ирен, другое от Ксавье Бриссака.
Двоюродный брат посылал весть, для Неверса чудесную: 27 апреля Бриссак заменит его. Это означало, что Неверс окажется во Франции к середине мая. Кузен сообщал также, что и Ирен написала письмо. Неверс утверждает, что не торопился ознакомиться с ним. Там не могло быть ничего неприятного, ничего важного. Письмо Ирен было написано позднее, чем послание Ксавье, но в нем не содержалось ни намека на свежие новости.
Неверс был счастлив, надеялся, что обрел душевное равновесие. Пытался оправдать Пьера (признавал его правоту: нет мужчины, достойного Ирен, и он, бледный, многоречивый завсегдатай кафе, достоин менее прочих).
Вспомним, что предшествовало этой ссылке в Гвиану. Произошло событие, всем известное (пропали бумаги, немаловажные для семейной чести и собственности на солеварне, все указывало на Неверса); Пьер поверил в его виновность, попытался спасти Ирен… Неверс беседовал с ним, и – так он уверяет – оправдался. Две недели был совершенно счастлив – все уладилось. Потом Пьер позвал его, поговорил с ним резко (вероятно, скрывая неспокойную совесть) и велел отправляться в Гвиану. Даже намеками, словно стыдясь, шантажировал его: в случае непослушания он обо всем расскажет Ирен. И добавил: «Через год ты вернешься и сможешь жениться на Ирен; по крайней мере, получишь мое согласие». По мнению Неверса, это доказывает, что Пьер признавал его невиновность.
Как же тогда он объяснил, зачем отправляет Энрике в Гвиану? Туманно. Привел доводы разного рода: всякое обвинение бросает тень, взять хотя бы капитана Дрейфуса (многие из тех, кто отрицал его вину, отказывались признавать, что он совершенно чист). Есть призрачная надежда на то, что дальний путь и суровая жизнь в Гвиане изменят его пагубные привычки просиживать в кафе ночи напролет; да и Ирен, того гляди, разлюбит его.
Неверс тоже никак не объяснил собственное странное поведение по отношению к Ирен (ни словом не упомянул темные дела, в которых оказался замешан). Подобное поведение сыграло на руку Пьеру.
Вот его доподлинные слова: Если я убедил тебя, если Пьера, который предпочел бы не верить мне, убедил тоже, какие трудности возникли бы с Ирен, ведь