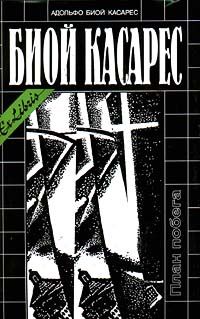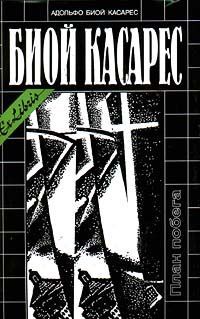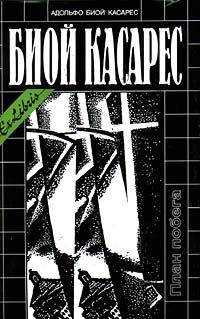она меня любит? (Я это пишу с суеверной, унизительной робостью) …Единственным оправданием моего извращенного отношения к Ирен являются моя глупость и извращенное отношение к себе самому.
Неверс послал Ирен стихи:
Лишь твоих шагов затихнет звук,Воскресают все мои печали,Я страшусь – чего еще вы ждали? —Близости чудовищных разлук.
Ирен упрекает его, справедливо, за то, что он написал ей эти строки, именно он, тот, кто ее оставил. Еще спрашивает, не намекает ли он на то, что их отдаление друг от друга связано не только с географией (в первой строке он обращается к ней на «ты», а в третьей – на «вы»), но это всего лишь шутка, может, слегка педантичная. Письмо Ирен светлое и нежное, как и женщина, что его писала.
Неверс был счастлив – через месяц все его заботы исчезнут. Письмо Ксавье, тем не менее, его беспокоило. Почему Ирен поделилась тем, что напишет ему, с этим болваном? Наверное, прибегла к столь примитивному средству сообщения, желая не упускать ни единой возможности доставить мне радость, вновь повторить, что она меня ждет и любит? В этом смысл послания. Это самое важное во всех письмах Ирен. И все же, признается он, в иные минуты абсурдного обострения чувствительности (а может, тому виной среда или климат, здесь такое происходит нередко) я предаюсь постыдным страхам. Я не должен был даже упоминать об этих мимолетных ощущениях. Упоминаю лишь затем, чтобы устыдиться и прогнать их.
Х
23 марта Неверс сделал обход острова Реаль и посетил красный барак – не ради того, чтобы найти Бернхейма, не для обещанного признания (объясняет он, думая, что это свидетельствует в его пользу), – а из-за обычной рутины.
Вечер выдался ясный. Все сверкало: желтые стены строений, песчинка на черной коре кокосовой пальмы, собеседник в красно-белую полоску. Вспомнив недостижимую темноту своей комнаты, Неверс торопливо, неверными шагами стал пересекать сияющий двор.
Заметил тень. Увидел под лестницей тенистое место, решил укрыться. Там Бернхейм сидел на какой-то бадье и читал книгу. Неверс приветствовал его с преувеличенной сердечностью.
– Вы не представляете, – произнес Бернхейм, с трудом подбирая слова, – как я продвинулся со времени нашей первой встречи. Я полон энтузиазма.
В глазах у него сверкали слезы, взгляд был печальный.
– В чем выражается ваше продвижение?
– Во всем. Приток жизненной силы… Полнота, сопричастность природе, кто его знает…
– Чем вы занимаетесь?
– Шпионю.
– Неужели?
– Да, надзираю. Мне нужно с вами поговорить. Угадайте, кому я обязан своим обновлением?
– Не знаю.
– Кастелю.
– Вы помирились?
– Ни в коем случае. – Помолчав, он выпалил: – Надо служить делу!
Похоже, Бернхейм ждал от Неверса ответа, потому что раздельно, настойчиво повторил:
– Дело – прежде всего.
Неверс не хотел ему подыгрывать.
– Что вы читали? – поинтересовался он.
– «Теорию цвета» Гёте. Эту книгу никто не спрашивает. Дрейфус выдает ее по разумной цене.
– Вы ведь жили на Чертовом острове. Что Кастель делал с животными?
Впервые, уверяет Неверс, какой-то остаток, «тень» цвета оживила лицо Бернхейма. Жуткая картина. Казалось, его вот-вот стошнит. Немного придя в себя, он произнес:
– Вы знаете мое кредо. Насилие – хлеб наш насущный. Но не над животными…
Неверс подумал, что не вынесет, если Бернхейм в его присутствии потеряет над собой контроль. Он сменил тему.
– Вы сказали, нам нужно поговорить…
– Да, нам нужно поговорить. Только не здесь, пойдемте.
Они зашли в туалет. Бернхейм указал на мраморные плиты и прошептал, весь дрожа:
– Я вам клянусь, клянусь кровью всех, кто был здесь убит: грядет революция.
– Революция?
Неверс его почти не слушал. Размышлял, как нелегко определить, безумен человек или нет.
– Революционеры готовят нечто грандиозное. Вы можете это предотвратить.
– Я? – удивился Неверс.
– Да, вы. Но давайте проясню свою позицию. Я действую не в пользу нынешней власти, а из здорового эгоизма. Вы расскажете правду: я обнаружил заговор. Но вы, наверное, считаете меня сумасшедшим, озираетесь в поисках Дрейфуса, чтобы уйти… Однако вы мне поверите. Может, не сегодня, но поверите. Ведь вы и навели меня на след.
– Я навел вас на след?
– Когда рассказали о «камуфляжах». Я только и думал, что о войне, и не сообразил, что речь идет о камуфляже. С той поры я вас уважаю. Вы скажете, что это ваше открытие – просто глупость. Любое важное открытие выглядит нелепо. Но все знают, что Педро Кастель – революционер.
– У меня много работы, – сухо произнес Неверс.
– Я был к этому готов. Когда мои слова сбудутся, вы поверите. Кастель увезет Пресвитера на Чертов остров не сегодня-завтра. Он – уголовник, обратите внимание. Кастель изгнал меня и взял его; ему нужны верные люди, те, кто не в ладах с законом. Вас он отправит в Кайенну. По двум причинам: избавиться от единственного неудобного свидетеля и привезти динамит.
– Кто его привезет?
– Да вы сами, и вы не будете первым. Ваш предшественник раз десять ездил в Кайенну. Взрывчатки накопилось столько, что весь архипелаг взлетит на воздух.
Похлопав Бернхейма по плечу, Неверс сказал, что обо всем позаботится. Пересек двор, вошел в административное здание и, миновав лестницы и коридоры, добрался до своей комнаты и сразу испытал огромное облегчение.
XI
26 марта
Неверс не знал, было ли то, о чем поведал Дрейфус, недобрым знаком. Хотелось спросить совета, но у кого? Он сам, все еще в ужасе от того, что приходится жить в тюрьме, соображал плохо (к тому же перегрелся на солнце). Может, со временем такая жизнь станет привычной, подумал он, и час, когда эта новость показалась ему ужасной, вспомнится с облегчением. Ведь все прошло, и опасность потерять рассудок миновала. Но, хотя Неверс и не приспособился к жизни в тюрьме (и, что кажется невероятным, этому радовался), все же был склонен придавать значение сведениям, полученным от Дрейфуса.
За три дня, которые этой вести предшествовали, не случилось ничего, достойного упоминания. Дрейфус казался подавленным, печальным (я решил не приставать к нему с вопросами, – пишет Неверс, – жизнь на этих островах оправдает любое отчаяние). Кастель распорядился, чтобы ему прислали несколько книг (труд Мари Гаэль о резонансе осязания и топографической анатомии спрутов; работу английского философа Бэйна о чувствах и интеллекте; Маринеску о синестезиях; наконец, как рассвет после долгой тьмы – испанского классика Суареса де Мендосу); Дрейфус их все переправил проволочным транспортером.
Вечером двадцать пятого Неверсу показалось, будто Дрейфус подавлен, как никогда; он накрывал на стол в полном молчании, и это угнетало: разговор во время трапез превратился для них в скромную, но приятную традицию. Вдруг, спрашивал себя Неверс, уважая печаль денщика, он усугубляет ее, вселяет опасение, что офицер недоволен. Не зная, как завязать разговор, предложил тему, которой хотел избежать:
– За что осудили Бернхейма?
– За измену.
– Значит, его, а не вас следовало прозвать Дрейфусом, – попытался он перейти на прозвища, тему не такую скользкую, как все, что касалось Бернхейма.
– Не говорите так о капитане Дрейфусе, – обиделся Дрейфус.
– Какие еще прозвища здесь в ходу?
– Какие прозвища… ну, например, Пресвитер.
– Кто такой Пресвитер?
– Марсильяк, с Сан-Хосе.