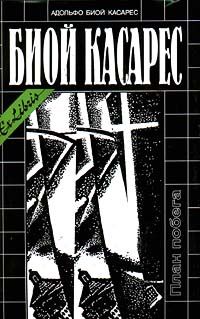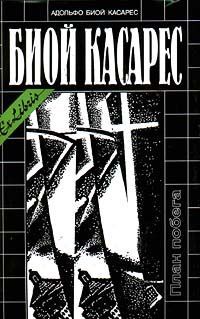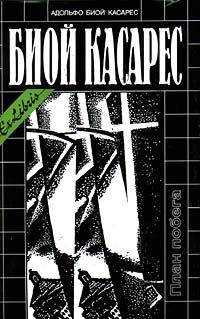снисходит сам папа – это танго родилось в Монтевидео.
– Должен вам заметить, что если послушать уругвайцев, окажется, что все мы, аргентинцы, родились там, от Флоренсио Санчеса до Орасио Кироги.
– Нет дыма без огня. Не будем уже вспоминать о Гарделе, который если не француз, так наверняка уругваец. Да и что говорить, ведь самое знаменитое танго тоже уругвайское.
– Я больше не могу, – заявил Гауна. – И простите, что я вмешиваюсь, но каким бы плохим аргентинцем человек ни был, нельзя же сравнивать эту ерунду с таким танго как «Иветт», «Ночной загул», «Койка», «Портеньито» и массой других.
– Не надо кипятиться, юноша, – отозвался говоривший, – и не стоит превращаться в каталог магазина пластинок. Я не сказал «самое лучшее», я сказал «самое знаменитое». – Потом, словно забыв о Гауне, белокурый снова повернулся к молодому человеку у стойки. – А что касается футбола, спорта, которым мы занимаемся с колыбели, на мостовой, играя тряпичным мячом, спорта, от которого мы все – члены правительства и оппозиция – одинаково сходим с ума, который привил нам привычку раскатывать в грузовиках, крича равнодушным: «Бока! Бока!» – что касается этого спорта, прославившего нас по всей нашей круглой планете, нам, дружище, надо посторониться: нас то и дело обыгрывают уругвайцы, и на олимпиадах, и на мировых первенствах.
– А отчего вы молчите о велогонках? – спросил молодой человек у стойки. – Мне припоминается, будто Тортероло или Легисамо – уругваец или что-то в этом роде.
Сказав это, молодой человек, которого называли Аросена, выхватил сандвич из-под стеклянного колпака, и добавил:
– Быть может, это поможет мне восстановить память.
Доктор тихо заметил:
– Мне кажется, за всем этим что-то кроется. – Он помолчал и добавил: – Теперь у меня все закипает внутри, но словесный поединок – это не по мне.
Забыв о недавней неприязни, Гауна посмотрел на него с былым безраздельным восхищением: ему снова хотелось верить в своего героя, в его миф и легенду, хотелось надеяться, что действительность, так чутко отзывающаяся на его тайные и страстные желания, наконец подарит ему случай, не такой уж для него необходимый, но дорогой и убедительный (каким для других верующих бывает чудо), блестящий случай, который после стольких противоречивых ощущений утвердит его в первоначальной вере, вере в романтическую, торжествующую иерархию, где над всеми доблестями возвышается храбрость.
Тем временем человек в шляпе на затылке продолжал говорить, а говорил он вот что:
– Но ведь не только в этих благословенных краях зарабатываем мы себе добрую славу: поглядите, во французских и калифорнийских кабаре вам непременно встретится аргентинец с прилизанными волосами, зарабатывающий на жизнь тем, что знакомит вас с такими женщинами, которые, честно говоря, рассчитаны разве что на тех, у кого нет глаз.
– А какое отношение это имеет к противоположному берегу? – спросил человек за столиком.
– Как какое? Их всех зовут Хулио, и все они уругвайцы.
– Теперь окажется, что мы, аргентинцы, даже в женщинах не смыслим, – заметил доктор и, повысив голос, распорядился: – Официант, подайте-ка что-нибудь этим сеньорам, пусть они объяснят, отчего мы такие несчастные. Они-то должны знать.
Оба попросили вишневую настойку.
– Уругвайскую, друг, потому что здешняя порядочное пойло, – сказал белокурый, обращаясь к официанту.
– Слабая выпивка, – отметил Пегораро.
– Чисто женская, – добавил Антунес.
– Поглядите, этого сеньора мы называем Жердью или Башней Бароло, – быстро сказал Майдана, указывая на Антунеса. – В нем больше метра восьмидесяти. Облазив с лупой весь Монтевидео, отыщете ли вы там дом, похожий на Башню Бароло?
– Не знаю, я там никогда не был и желания не испытываю.
Доктор тихо объяснил Гауне:
– Парни – точно шавки, горластые шавки, они лают на дичь и чаще всего спугивают ее. Увидишь, они вот-вот начнут кидаться хлебным мякишем или кусочками сахара.
Но этого не случилось. Все кончилось слишком быстро. Внезапно молодой человек в шляпе на затылке сказал:
– Доброй ночи, сеньоры. Большое спасибо.
Белокурый тоже сказал «большое спасибо». Оба спокойно вышли за дверь. Доктор встал, чтобы последовать за ними.
– Пусть их, доктор, – вмешался Гауна. – Пусть себе идут. Сначала мне хотелось, чтобы вы проучили их как следует. Теперь уже нет.
Валерга подождал, пока он кончит, потом сделал шаг к двери. Гауна вкрадчиво взял его за локоть. Доктор с ненавистью посмотрел на коснувшуюся его руку.
– Пожалуйста, – продолжал Гауна. – Если вы выйдете, доктор, вы убьете их. Карнавал длится до завтра. Не будем прерывать праздник из-за этих людей, которых совершенно не знаем. Прошу вас, не забывайте, что вы мой гость.
– Кроме того, – встрял Антунес, желая разрядить атмосферу, – все случилось между аргентинцами. Будь они иностранцы, мы бы им не спустили.
– А тебя спрашивают? – в ярости крикнул доктор.
Гауна с признательностью подумал, что с ним Валерга обращается уважительно.
XLVII
По проспекту Освальдо Круса они дошли до Монтес-де-Ока. Заведение, где они побывали в 1927 году, стало теперь жилым домом. Майдана сказал: – Интересно, какие здесь живут сеньориты?
– Такие же, как везде, – ответил Антунес.
– С одной разницей, – многозначительно заметил Пегораро.
– Не вижу ничего особенного, – заверил Антунес.
– Как пить дать, – продолжал Майдана, – местные ребята, разговаривая с ними, вставляют всякие намеки.
Они заходили в кафе. Казалось, доктор обиделся на Гауну. А тот смотрел на доктора с прежней теплотой, в которой было нечто сыновнее. Обида Валерги растрогала, но не слишком встревожила его: важнее было другое – примиренность, переполнявшее его чувство дружбы. Забыть утреннюю неприязнь побуждали его не усталость и не множество выпитых рюмок; там, в баре на площади Диас Велес, диалог этих незнакомцев больно задел Гауну, ибо они насмехались над тем, что было для него самым милым и драгоценным, и Валерга, верный себе – или тому образу, который в прежние времена сложился у Гауны, – как олицетворение отваги, встал на защиту идеалов.
Они пошли по улице Монтес-де-Ока подыскивать какой-нибудь отель, где бы провести ночь. Вошли было в один на углу Гимараэнса и Морейры, но обнаружив, что внизу находится конюшня, двинулись дальше.
– Лучше всего – сказал Валерга, – заглянуть к хромому Араухо.
Хромой Араухо был хозяином, или точнее, сторожем, большого склада строительных материалов на улице Ламадрид. Парни пришли в изумление. Покачивая головами, они обсуждали это удивительное обстоятельство.
– Подумать только, – подчеркнул Пегораро, – доктор, живущий в Сааведре, имеет столько знакомых в самых глухих местах, в таких удаленных районах, чтобы не сказать, на окраинах.
– И при том он неотделим от Сааведры, как тамошний сквер, – добавил Антунес.
– Чего тут странного, – осмелился возразить Майдана. – Мы тоже из Сааведры, а смотрите, где оказались.
– Не будь идиотом, сейчас другое время, – урезонил его Пегораро.
– Этот никого не уважает, – сказал Антунес, указывая на Майдану. – У него мания отрицать чужие заслуги.
Пегораро догнал доктора, который шел впереди с Гауной, и спросил:
– Как вам удается, доктор, иметь столько знакомых?
– Видишь ли, дружок, – ответил Валерга с некой печальной гордостью, – поживите-ка вы все с мое и увидите, если не просвистите жизнь понапрасну, что, по крайней мере, обзавелись в этом божьем мире прорвой друзей – чтобы как-то их назвать, –