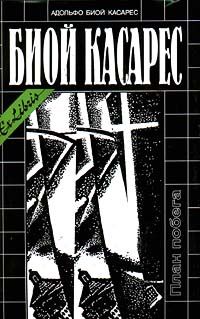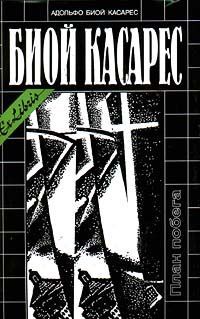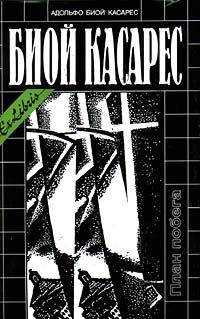Надо сказать Валерге, как он презирает его.
Гауна взглянул в бездонную голубизну неба. Причудливое нагромождение рассветных облаков и прогалины между ними исчезли. Начиналось утро. Гауна провел рукой по лбу – холодному и влажному. Он почувствовал, что бесконечно устал. И тогда он понял – мгновенно и смутно, – что не должен никому мстить, не должен устраивать драку. Ему захотелось оказаться далеко отсюда. Забыть об этих людях, как о кошмаре. Он немедленно вернется к Кларе.
Как и можно было предположить, он не вернулся. Он снова прибегнул к легкому средству – принялся заводить себя, повторять: «пусть эти мерзавцы знают, что я о них думаю»; но очень скоро эта вспышка энергии угасла, им овладело безразличие, и с некой подспудной радостью он отдался на волю судьбы. Мне лично кажется, что Гауна понял: если он бросит приключение на полдороге, оно будет мучить его до самой смерти. Стоя в дверях лачуги и опершись на косяк, он ощущал ход времени, казался себе самому ловким игроком, который без спешки, постепенно разглядывает свои карты одну за другой и знает, что пока он спокоен, он непобедим; Гауна пытался думать о карнавале двадцать седьмого года, но его отвлекало настоящее, отвлекал блестящий образ ловкого игрока. Однако, ибо мысль то течет потайными кругами, то перескакивает с одного на другое напрямик, Гауна, полный туманной беспечности, вдруг обнаружил, кто же был тот слепой скрипач, которого он так необъяснимо (как показалось ему) напугал во дворе дома в Барракасе в день, когда Клара сказала ему, что встречалась с Баумгартеном: тот же самый, которого поранил доктор на улице Годоя Круса. Слепой испугался, потому что узнал голос Гауны: ведь перед нападением Валерги молодой человек попросил его, как и в Барракасе, сыграть еще один вальсок. А горечь, которую он сейчас ощущал, была легко объяснима: его снова щемила память о том, что было для Гауны необъяснимой изменой Клары.
Рыжий пес опять подошел ближе. Гауна сделал шаг, чтобы его погладить, движение отдалось в голове мучительной болью, которая пошла кругами, точно волны от камня, брошенного в недвижную гладь озера. Постепенно из лачуги вышли один за другим парни и доктор, они болезненно щурились, словно белизна дня причиняла им боль. Утро прошло в безделье, кто-то раздобыл бутылку джина, и парни распили ее, растянувшись в тени какой-то повозки. Гауну преследовал и мучил едкий сладковатый дым, веявший над свалкой; других – нет, и они дружески посмеивались над Гауной, называя его неженкой. Пока они дремали, над их усталыми и больными головами кружили зеленые мухи.
Под вечер приехал верхом хозяин лачуги. Он был в городском костюме, низы брюк зажаты прищепками, как у велосипедиста. За ним шагали четверо-пятеро мужчин в фуфайках и широких бриджах – команда его работников. Хозяин был крепкий мужчина лет пятидесяти с лишком; на его бритом, широком, веселом лице постоянно играла открытая улыбка, изображавшая то симпатию, то интерес к словам собеседника, что порой наводило на мысль о лицемерии. Волосы его были подбриты на затылке и на висках; у него были короткие толстые руки, толстый живот, толстые ноги. Здороваясь с доктором, он наклонился вперед верхней частью корпуса, свесив несгибающиеся руки, словно кукла на шарнирах. На свалке он работал сам по себе; его специальностью были лекарственные средства, и он сделался даже своего рода импресарио, ибо держал бригаду работников, которые, рассеявшись по свалке, рылись в мусоре для него. Валергу он приветствовал с сердечностью, не лишенной помпы, а на парней почти не обратил внимания.
– Как работается, дон Понсиано? – спросил его доктор.
– Да что тут, дружище, эта работа – как любая другая. Раз в кои веки случается момент процветания, а потом опять все замирает, доходы нищенские, с позволения сказать. Гвоздь всего, если вам угодно, самый больной вопрос – это работники. Я плачу им по-королевски – если, конечно, говорить о расценках, существующих на свалке, здесь сколько соберешь, столько и получишь. Но они – моя головная боль, и нет против нее никакого отечественного лекарства. Поверьте, страшно сказать, чего тут не натерпишься. Для меня самое главное – порядочность, чтобы все было по закону и справедливости, а их так и тянет урвать то, что им не принадлежит, забраться в огород коллеги. Ясно, тот мчится сюда, будто я ему соли на хвост насыпал, с ножом в руке. Представьте себе человека, который живет сбором золота, и которого, если он подберет, к примеру, пузырек касторки, я выпотрошу чисто из принципа – так какими же глазами он должен смотреть на моих работников, когда те стоят и скалятся, точно министры какие, сверкая двойными рядами золотых зубов?
Наверное, доктор очень любил дона Понсиано, раз безропотно слушал и слушал его. Парни были просто потрясены терпением Валерги и, стуча по дереву, клялись, что никогда не видели его в таком добром настроении, как в этот карнавал. Потом произошел короткий спор между доктором и его другом, в котором первый снова доказал свою покладистость: дело было в том, что хозяин пригласил всех отужинать с ним, а доктор, из воспитанности, никак не соглашался принять приглашение. Вскоре пришла хозяйка, которая так неласково встретила их прошлой ночью, и принесла мясо. Пока оно жарилось – Гауна смотрел на капельки свинца, скатывавшиеся по бокам котла, поставленного на угли, – хозяин лачуги принимал мешки, которые подносили ему работники, и расплачивался с ними. Ужин – куски мяса, сухого, как подошва, сухари и пиво – затянулся допоздна. Само собой разумеется, главным была царившая тут сердечность и неторопливость. Хозяин пригласил их на вечеринку «высокого полета» в один дом на проспекте Годоя Круса.
– Материал там, – объяснял дон Понсиано, – самый что ни на есть качественный. Амфитрион – настоящий магнат, умеет жить, разбирается в жизни – надеюсь, вы меня понимаете – и приглашает женщин из Вильи-Сольдати и Вильи-Креспо. У меня там карт-бланш: я могу приводить кого вздумается, потому что уважает он меня просто исключительно. Это интересный человек, добившийся всего собственными руками, он собирает вату – дело приносит большой доход, хоть и кажется пустяком. Надо ли добавлять, что он к тому же иностранец, из тех, что дорожит каждым сентаво?
Доктор заявил, что он и его молодые друзья не могут пойти сегодня на вечеринку, потому что должны двинуться дальше, в Барракас; хозяин предложил переговорить с владельцем повозки.
– Мы, сторонники частной инициативы, – объяснил он, – никогда особенно не ладим с этими бездельниками и лентяями, которые живут на государственное жалованье, и – надеюсь, вы меня понимаете – точно носят на лбу официальную бляху. Но у меня добрые отношения со всеми, и если вы сегодня пойдете на вечеринку, то