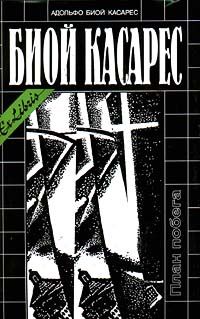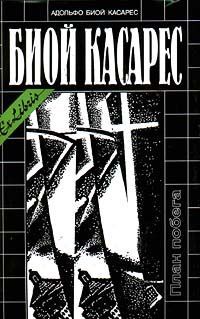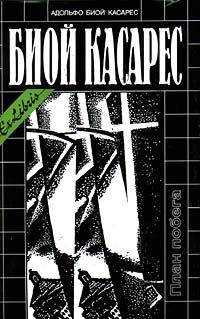ли трусцой. Кучер дернул за поводья, лошадь тут же встала.
– Что случилось? – спросил доктор.
– Лошадь больше не может, – объяснил кучер. – Рассудите сами, сеньор: надо дать ей отдохнуть.
Сурово и надменно Валерга спросил:
– Можно узнать, по какому праву вы обращаетесь ко мне с такой просьбой?
– Так ведь лошадь сдохнет, сеньор, – сказал кучер. – Когда она начинает трусить вот так, значит, силы на исходе.
– Ваша обязанность довести нас до места. Ради чего-то ведь вы опустили флажок, и таксиметр с каждым триктрак набрасывает нам по десять сентаво.
– Если хотите, зовите полицейского. Я не стану убивать свою лошадь ни ради вас, ни ради кого угодно.
– А если я убью вас, лошадь позаботится о похоронах? Лучше скажите вашей лошадке, чтобы трусила дальше. Эти дебаты начинают действовать мне на нервы.
Спор продолжался в том же духе. Наконец кучер смирился, тронул лошадь кнутом, и та двинулась дальше, однако очень скоро споткнулась и с почти человеческим стоном повалилась на землю. Коляска резко дернулась и остановилась. Все спустились и окружили лошадь.
– Ай, – воскликнул кучер, – больше она не встанет.
– Как это не встанет? – живо спросил Валерга.
Кучер словно не слышал. Он не спускал глаз с лошади и наконец сказал:
– Нет, она не встанет. Ей конец. Бедная моя Новента.
– Я пошел, – сказал Массантонио.
Его подергивало, казалось, он на грани припадка.
– Погодите вы, – отмахнулся доктор.
Но парикмахер продолжал, чуть не плача:
– Сеньор, мне надо идти. Что скажет моя сеньора, когда увидит, что я явился домой под утро? Я пошел.
– Вы остаетесь, – сказал Валерга.
– Бедная моя лошадка, конец тебе пришел, – безутешно причитал кучер. Казалось, он не может ни на что решиться, не может сделать хоть что-то для своей лошади, он лишь скорбно смотрел на нее и качал головой.
– Если этот человек говорит, что лошади конец, полагаю, он уже считает ее мертвой, – солидно произнес Антунес.
– А что потом? На чем мы поедем, верхом на кучере? – спросил Пегораро.
– Это уже другой вопрос, – возразил Антунес. – Все в свое время. Сейчас я говорю о лошади по кличке Новента. Полагаю, надо сжалиться над ней и пристрелить, чтобы не мучилась.
В руках у Антунеса был револьвер. Гауна поглядел в глаза лежащей лошади. Безмерная печать и боль, отражавшаяся в этих глазах, явно доказывали, что она еще жива. Было страшно слушать разговоры о том, чтобы ее пристрелить.
– Обещаю вам два песо за труп, – говорил Антунес кучеру, который слушал его в оцепенении. – Покупаю его для моего старика, он у меня мечтатель. Надеется в один прекрасный день образовать компанию по разделке павших животных, а потом продавать их по частям: шкуру одним, жир другим, понимаете? Из костей и крови мы со стариком готовили бы прекрасное удобрение. Вы не поверите, но по части удобрений…
Валерга прервал его.
– Зачем вы собираетесь прикончить коня, – сказал он, – который так хорошо сохранился? Лучше помогите ему подняться.
– Иначе, – подхватил Пегораро, – кто отвезет нас со всеми удобствами к месту нашего назначения?
– Все бесполезно, – повторил кучер. – Новента подыхает. Надо бы ее выпрячь, – добавил он.
Выпрягли лошадь с большим трудом. Потом оттолкнули коляску назад. Доктор подобрал поводья и приказал Гауне взять кнут. Крикнул: «Давай!» и дернул за поводья. Гауна кнутом попытался подбодрить животное. Валерга начал раздражаться. Каждый рывок поводьев был резче и грубее прежнего.
– Что это с тобой? – спросил доктор Гауну, глядя на него с возмущением. – не умеешь держать кнут или жалеешь лошадь?
Удила резали рот животного, из раненых уголков губ сочилась кровь. Бездна спокойствия отражалась в печальных глазах. Он ни за что не ударит лошадь кнутом. «Если понадобится, – думал он, – лучше я ударю кнутом доктора». Кучер принялся плакать.
– Такую лошадь, – стонал он, – мне не найти даже за шестьдесят песо.
– Ну, давайте разберемся, – сказал Валерга. – Что толку плакать? Я делаю, что могу, но советую вам не утомлять меня.
– Я пошел, – сказал Массантонио.
Валерга обратился к парням:
– Я дерну за поводья, а вы ставьте ее на ноги.
Гауна бросил кнут на землю и собрался помогать.
– Это уже не рот, а черт знает что, – заметил Валерга. – Голое мясо. Стоит дернуть, и все разрежется.
Валерга потянул, остальные налегли и все вместе подняли лошадь. Ее окружили, крича: «Ура!», «Да здравствует Новента!», «Да здравствует «Платенсе»!». Парни хлопали друг друга по спинам и прыгали от радости.
Доктор сказал кучеру:
– Вот видите, приятель, нечего было плакать.
– Я ее запрягу, – вызвался Пегораро.
– Не будь идиотом, – вмешался Майдана. – Несчастная лошадь чуть жива. Дай ей немножко отдышаться.
– Какое еще, отдышаться, – возразил Антунес, потрясая револьвером. Не торчать же нам тут всю ночь.
Пегораро добродушно заметил:
– Наверное, он хочет, чтобы мы впрягли его.
Он подтолкнул коляску к лошади. Антунес свободной рукой попытался ему помочь: взял за узду и дернул. Лошадь снова упала.
Валерга подобрал лежавший на земле кнут и погрозил им Антунесу.
– Тебя бы хлестануть этим по лицу, – сказал он. – Дерьмо ты, последнее дерьмо.
Он вырвал поводья у него из рук, повернулся к кучеру и сказал спокойным тоном:
– Честно сказать, маэстро, похоже, ваша лошадь смеется над нами. Я отобью у нее охоту.
Левой рукой он повернул поводья вверх, а правой изо всей силы стегнул ее кнутом, потом еще и еще. Лошадь хрипло застонала, содрогнулась всем телом, попыталась встать. Чуть приподнялась, задрожала и снова свалилась.
– Пожалейте ее сеньор, сеньор, пожалейте ее, – воскликнул кучер.
В глазах лошади отразился такой страх, что, казалось, они вылезут из орбит. Валерга снова поднял кнут, но Гауна шагнул к Антунесу и еще до того, как кнут опустился, выхватил у Антунеса револьвер, прижал дуло к затылку лошади и, широко раскрыв глаза, спустил курок.
XLIV
Опершись о косяк, Гауна смотрел на рассвет, который занимался над городом, далеко за свалкой, и спрашивал себя: значит, это и были те забытые магические эпизоды карнавала двадцать седьмого года, и теперь он наконец воссоздал их после того, как мучительно, жадно, обрывками припоминал в течение трех лет? Точно в отраженном лабиринте, в карнавале 1930 года он нашел три события другого карнавала; так надо ли стремиться к кульминации своего приключения, к источнику его темного сияния – лишь затем, чтобы постигнуть тайну и убедиться в ее гнусной мерзости?
Какое несчастье, подумал он. Какое несчастье целых три года мечтать вновь пережить эти минуты – как человек мечтает вновь пережить чарующий сон; в его случае это был не сон, но главная, грандиозная тайна его жизни. И когда он сумел извлечь из темноты часть этого великолепия, что же он увидел? Случай со скрипачом, случай с мальчиком, случай с лошадью. Самую неприкрытую жестокость. Как простое забвение могло превратить эти эпизоды в нечто бесценное, полное ностальгии?
Почему он подружился с парнями? Почему восхищался Валергой? И подумать только: ради того, чтобы болтаться по городу с этими людьми, он оставил Клару… Гауна закрыл глаза, сжал кулаки. Надо отомстить за эти низости, в которые он оказался замешан.