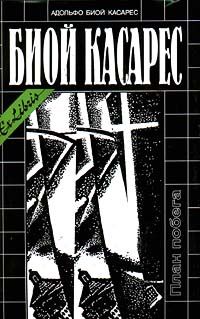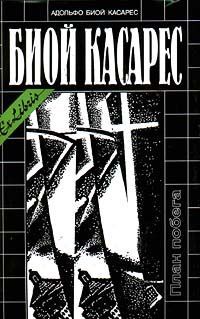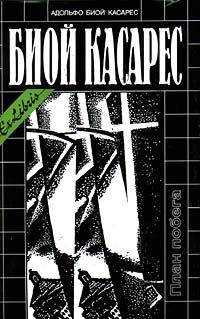наряженными испанками, и молодым человеком в костюме пирата.
– Уф! – воскликнул молодой человек. – Какое счастье, что мы ушли.
– В этом году карнавал просто ужасный, – пожаловалась одна из сеньорит. – Шагу нельзя ступить без того, чтобы первый же нахал…
– Вы заметили, – прервала ее другая, – он прямо ел меня глазами…
– А я, клянусь, боялся, что от духоты задохнусь, – заверил молодой человек.
– Да что вы говорите, – пробормотал Валерга.
Уличные торговцы предлагали маски, полумаски, носы, серпантин, коробки с бутылочками; местные ребятишки предлагали тайком, за умеренную цену, использованные бутылочки, наполненные заново – как уверяли люди, водой из канавы; другие продавцы торговали свежими и засахаренными фруктами, мороженым «Лапландия», крендельками из кукурузной муки, кексами и арахисом. Ребята и доктор протолкались сквозь толпу, чтобы посмотреть на процессию. Пока они наблюдали за большими ангелами, выделывавшими странные движения на повозке с некой аллегорической сценой, рыжая девушка, сидевшая в большом наемном фаэтоне, метко прицелившись, угодила красным шариком доктору в глаз. Валерга, явно рассердившись, попытался швырнуть в нее бутылочку, отнятую в порыве гнева у плаксивого мальчика, наряженного гаучо, но Гауна сумел его удержать. После этого молодые люди и Валерга медленно двинулись дальше среди толпы, глядя по сторонам и задирая девушек, входили в бары, пили канью и джин. Потом, усевшись в такси, продолжали бесконечный путь, выкрикивая комплименты и ругательства. Где-то на уровне домов под номерами, начинавшимися с 7200, Валерга приказал:
– Стойте, шофер. Я больше не могу.
Гауна расплатился. Они зашли в еще один бар и потом по неширокой тенистой улочке, возможно Лафуэнте, двинулись к югу. В тишине пустынных кварталов громко раздавались их пьяные голоса.
Слева, на фоне лунного неба и облаков, виднелись беловатые стены и высокие трубы какой-то фабрики. Вдруг стены сменились крутыми оврагами. Гауна увидел густую траву, росшую по их краям, кое-где сосну-другую и кресты. Воздух был пропитан душным запахом сладковатого дыма. Здесь уже царила темнота, последний одинокий фонарь, стоявший над обрывом, остался позади. Они шли дальше. Тучи скрыли луну. Теперь слева, как показалось Гауне, простиралась тёмная равнина; справа – холмы и долины. На равнине слева появлялись и исчезали круглые огоньки. Два таких огонька стремительно надвинулись на них из темноты. Внезапно Гауна увидел почти рядом огромную голову лошади. Наверное, после жутких масок, которых он навидался этой ночью, мирная морда животного испугала его как дьявольское наваждение. Он понял: слева был загон для лошадей; круглые огоньки – лошадиные глаза. Потом у него подкосились ноги, ему показалось, что он теряет сознает. В голове его промелькнуло и сейчас же исчезло какое-то воспоминание – так человек, проснувшись, мгновенно вспоминает и тут же забывает приснившийся сон. Когда ему удалось снова зацепиться за это воспоминание, он выразил его вопросом:
– Что произошло в ту же ночь двадцать седьмого года с лошадью?
– Ну вот, – отозвался доктор. – Сперва это был мальчик.
Все засмеялись. Пегораро заметил:
– Эмилито у нас очень переменчив.
Гауна поднял глаза и увидел зарницу на небе. Он загадал желание: вернуться к Кларе.
Вслед за Валергой они сошли с дороги и зашагали по холмам и долинам – так ему казалось, – простиравшимися справа. Идти было трудно, потому что земля, сухая и мягкая, проседала под ногами.
– Какой противный запах, – воскликнул Гауна. – Дышать невозможно.
Вокруг стоял этот отвратительный запах сладковатого дыма.
– Гауна у нас неженка, – пропел Антунес высоким женским голосом.
Гауна услышал его словно издалека. Холодный пот выступил у него на лбу, в глазах потемнело. Когда он пришел в себя, его поддерживала рука доктора. Валерга дружелюбно сказал:
– Давай Эмилито. Уже близко.
Они двинулись дальше. Вскоре послышался лай. Их окружила стая бродячих собак; собаки лаяли и повизгивали. Точно во сне Гауна увидел женщину в лохмотьях – женщину, встретившую их в дверях усадьбы в 1927 году. Валерга заспорил с ней, взял ее за локоть, отодвинул в сторону, освобождая им дорогу. Комнатка была маленькой и грязной. Гауна увидел в углу овечью шкуру. Без сил он свалился на нее и уснул.
XLII
Когда Гауна проснулся, в комнате было темно. Он слышал дыхание спящих. Заткнул уши, закрыл глаза. И сразу вернулся к тому же сну, который видел перед пробуждением: с ножиком в руках он топтался в кольце людей, почти скрытых под причудливо сплетавшимися тенями; понемногу в свете луны он узнал их всех: это были доктор и ребята. Он снова проснулся и широко раскрыл глаза, глядя в темноту. Почему он дрался, почему во сне его сжигала такая ненависть к Валерге? Он уже не слышал дыхания спящих, а напрягшись, забыв обо всем, ловил какое-то воспоминание. Он нашел его во сне, а, проснувшись, потерял. Наконец он вспомнил. Да, то был случай с мальчиком. Во сне снова произошло то, что случилось в двадцать седьмом году. Теперь Гауна помнил это во всех подробностях.
Там был не один мальчик, а два. Первый – лет трех-четырех, в костюме Пьеро, вдруг возник у их столика, тихо плача, а другой, чуть постарше, сидел за соседним столом. Доктор рассказывал одну из своих историй, когда первый мальчик внезапно остановился возле него.
– Ну, рекрут, что надо? – раздраженно спросил его доктор.
Ребенок продолжал плакать. Доктор заметил второго мальчика, подозвал его, сказал ему на ухо несколько слов и дал бумажку в пятьдесят сентаво. Мальчишка – без сомнения, подчиняясь приказу, – пнул Пьеро ногой и убежал к своим. Пьеро ударился ртом о край стола, выпрямился, утер кровь с губ и продолжал тихо плакать. Гауна спросил его, что случилось: мальчик потерялся и хотел вернуться к родным. Доктор встал и заявил:
– Минуту, ребята.
Он подхватил мальчика и вышел из кафе. Вернулся он очень скоро, воскликнул: «Готово» и объяснил, потирая руки, что посадил ребенка в первый же проходящий трамвай, в вагон, полный масок. И добавил со вздохом:
– Видели бы вы, как перетрухнул бедняга рекрут.
Это был случай с мальчиком, это было первое приключение, пример, по которому можно было судить о том, что осталось в его памяти героической эпопеей, о трех славных ночах двадцать седьмого года. Теперь Гауна хотел припомнить, что было с лошадью. «Мы ехали в коляске», – сказал он и попытался представить себе эту сцену. Закрыл глаза, сжал рукой лоб. «Бесполезно, – подумал он, – больше я ничего не вспомню». Чары развеялись, он превратился в зрителя, следившего за собственными умственными процессами, которые замерли… Или нет, не замерли, но не подчинялись его воле. Он видел одну сцену, только одну сцену другого эпизода, но не эпизода с лошадью. Сильно накрашенная женщина в голубом халате, под которым виднелась рубашка в черный горошек с вышитым сердцем, сидя за плетеным столиком, разглядывала ладонь кого-то незнакомого и восклицала: «Белые пятнышки на ногтях. Сегодня предприимчив, а завтра – как пришибленный». Слышалась музыка: ему сказали, что это «Лунный