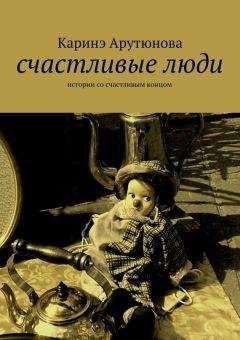Ознакомительная версия.
Потому что если пройти немного левее, а потом чуть правее и наверх, туда, к старым кварталам, где ветер треплет развешенное там и сям белье, то можно увидеть человека с аккордеоном, в темных очках и шляпе-канотье. И услышать мелодию из одного старого фильма.
Кажется, речь идет о любви.
Я люблю сумасшедших.
Допустим, есть тут один (хотя на самом деле их гораздо больше, но многие умело маскируются).
Утверждает, что живет с Моникой Белуччи. То есть живет он, вообще-то, с пожилой мамой в стандартной двухкомнатной квартире, оснащенной стандартными удобствами, а, может быть, даже с женой и двумя детьми, не суть.
Все это внешнее, несущественное.
А внутренняя жизнь – она гораздо насыщенней и важней ежедневной паутины, в которой бьется каждый из нас.
Того, что внутри, не отнять, не оспорить.
Моника Белуччи – моя, сказал он как-то, закрепив за собой незыблемое право, в котором никто из нас не посмел бы усомниться.
В конце концов, если сама Моника не возражает…
Каждое утро она пробуждается, как все женщины и все, к конце концов, люди. Просыпается, такая, без макияжа и всех этих ухищрений, – просыпается, слоняется по квартире, пьет кофе, смотрит в окно. Все эти подробности бытия прекрасны.
Он знает, в каком настроении она сегодня. Чувствует, и все тут.
Моя девочка грустна сегодня, еще бы, – даже там, в ее таинственных праздниках и буднях, движутся стрелки, отсчитывают минуты и часы.
Моя девочка стала старше еще на год, – улыбается он, растягивая черно-белый кадр по мерцающему монитору. Изображение подрагивает, расползается, обнаруживая внезапные морщинки в уголках глаз, ну, не морщинки, а всего только намек, дуновение, напоминание…
Милая, – милая, – он аккуратно копирует его и вносит в специальную папку под названием «Моника».
Там у него все. Вся жизнь, удачные и неудачные снимки, хотя неудачных практически нет.
Она безоружна. Он знает о ней все, а она о нем – ничего. Собственно, никогда не узнает.
Подобная Фермине Дасе2, она будет хорошеть, взрослеть, стариться, не подозревая о преданном и страстном поклоннике, оберегающем каждый миг ее сна и бодрствования, каждый день ее жизни…
Вот она, вся, в каждом файле запечатленная, более живая и убедительная, чем любая мечта.
– Сегодня у меня ужин с Моникой, годовщина, – сообщает он доверительно. Щелкает мышкой, ерзает, покрывается испариной.
Мы робко переглядываемся.
Осмеять мечту всякий может. Спугнуть, ранить, убить.
На цыпочках выходим из комнаты, сраженные главными аргументами – тяжелой немного пыльной бутылью кьянти в плетеной сетке и двумя бокалами на письменном столе.
Весна. В коридорах средней школы номер двести четыре – запахи пота и мастики.
Мужев и Фельдблюм на лету разбивают девчачьи стайки, – высшим пилотажем считается внезапно вметнувшаяся вверх и без того символическая юбчонка. Берендеев, Берендус или Жирный, тряся щеками и хохоча, хлопает девчонок промеж лопаток, – на предмет наличия пока ещё весьма таинственного элемента женской экипировки. О результатах сообщается во всеуслышанье, – таким образом, всем становится известен тот факт, что Сонечка Шварц носит лифчик, а тощей Смирновой, например, он совсем ни к чему.
Некоторые девочки уже давно маленькие женщины. У них усталые с поволокой глаза и вспухшие губы. Таких мальчишки уважают и побаиваются. Вон Люда Макарова, например, появляется только к третьему уроку, и вообще ей не до того, школьное платье трещит на груди, после школы её ждет студент (взрослый мужчина!), скорей всего, Люда скоро выйдет замуж и нарожает маленьких макаровых одного за другим, а на физику и сны Веры Павловны ей глубоко наплевать.
В общем, на повестке дня – ЛЮБОВЬ. Без неё – никак. Дома я верчусь у зеркала, ешё на сантиметр укорачиваю платье, – сырой весенний воздух и бурное цветение яблонь взывают к подвигам. Элементами эротики пестрит «Молодая гвардия», у Горького полно, Куприн бесценен. А уж Бунин… Под партами во время уроков перечитываются захватанные, переписанные чьим-то аккуратным почерком тетрадки. Уши горят. Во рту пересыхает. В общем, так дальше нельзя.
Вдобавок, массу страданий причиняет внешность.
Исчезает беспечная гладкость кожи, волосы вьются совсем «не туда», и вообще их гораздо больше, чем требуется.
Главное, направить страсть в нужное русло. Срочно подыскивается объект. Только, вот незадача, – своих, из класса, я знаю как облупленных, – но в седьмом «А» – новенький, – чёлка до бровей, глаза синие как озера… Сказано – сделано.
Все уже в курсе, что новенький Вася ДедУшко (с ударением на втором слоге) – мой. Знают, пожалуй, все, кроме самого Васи.
Я загружена делами по горло, – едва заслышав звонок на перемену, пулей вылетаю за дверь. Сначала – в туалет, – подправить чёлку (не волосы, а настоящая пакля) потом – на второй этаж, поближе к любимому. – ТВОЙ в столовой, – шепчут сочувствующие. Точно гончая, несусь по следу. Наворачиваю кругов пять вокруг ничего не подозревающего героя, невинно жующего пирожок.
Страсть требует выхода. Я веду дневник. Конечно, каждая следующая страничка посвящена чувствам, – удивительной, всепоглощающей страсти. «Сегодня он посмотрел на меня долгим, волнующим взглядом…» Меня не смущают слухи о том, что Вася – тупица и двоечник, косноязычен и неразвит. Я преданно смотрю в распахнутые глаза, о, боже, я тону в них…
Наконец, и сам виновник что-то заподозрил. Несколько раз поймала его недоуменный взгляд. Развязка неумолимо приближалась. Моя лучшая подруга заявила, что не в силах более наблюдать наши обоюдные терзания.
Так как Василий мой не проявлял никакой инициативы, пришлось взяться за дело самой. После длительных колебаний я подошла к нему. Набрав воздуха в легкие, поинтересовалась, чем он занят после уроков. Вася опустил мохнатые ресницы. Ботинки моей любви были давно не чищены, под ногтями синела траурная кайма, но, клянусь, это ничуть не портило очарования момента… Томительная пауза тянулась вечность. Сердце бешено колотилось. Наконец, возлюбленный мой поднял глаза, – невинные, как у двухмесячного щенка. – Ты шо, ходить со мной хочешь? Я замерла. Такого вопроса, прямого и бесхитростного, предусмотрено не было. Подготовиться я не успела. Кроме того, я уже не была уверена, хочу ли я «ходить» с ним. Этот многозначительный диалог, увы, оказался последним…
Когда-то я любила Фиделя Кастро. В числе моих влюбленностей он занимал достойное место.
Но обаяния Че ему было не переплюнуть.
Че был моей детской любовью, не исключающей нежного томления по иным объектам, – как то – бледном мальчике в коричневых колготах под синими шортами, по неподозревающейниочемудивительнойдевочке из соседнего подъезда, или по очаровательному денди, доктору (как оказалось, зубному протезисту) с пятого этажа.
Доктор ходил в кожаном пальто и каждый вечер поднимался на свой пятый с новой дамой. Даму он деликатно поддерживал под локоток, и пахло от него крепким мужским парфюмом (в смысле, от денди).
Мальчика я жалела, протезистом восхищалась, девочкой любовалась издалека.
Но все это было… преходящее, что уже тогда, в нежном возрасте я немного понимала.
Книжка из серии ЖЗЛ с портретом огненноглазого команданте на обложке была зачитана до дыр. Сердце мое катилось по скорбному маршруту боливийских джунглей…
Чуть позже я обзавелась огромным цветным портретом мудрого (тогда еще относительно молодого Фиделя). Канцелярскими кнопками я прикрепила его к стене, сокрушаясь втайне от самой себя о двойственности человеческой натуры, – любовь к одному, а портрет – совсем другого. Легкая влюбленность оказалась легче и приятней любви, и даже несколько ее затмила.
Время шло.
Фидель мудрел, старел, бронзовел, ветшал. Из-за плеча его проступал лисий профиль партагеноссе Рауля, родного брата.
Пыла его все еще хватало на многочасовые проповеди. Бесчисленные женщины, жены, подруги и любовницы, старели, сменяли одна другую, страны, паспорта и даже лица, но ускользнуть из-под пресса несокрушимого обаяния и кубинских спецслужб им не удавалось.
Что-то ушло.
Влюбленность моя улетучилась, осела, скукожилась, как многократно стиранное белье, как трубкой свернутый плакат с изображением прекрасного барбудо. Забылась напрочь, освободив место для других, не менее страстных увлечений.
Плакат пылился на антресоли, вместе с другими невостребованными реликвиями.
Зато Че оставался молодым.
Он не успел дожить до смехотворного финала, он не успел наскучить себе, другим, – его лицо по-прежнему было озарено лукавой немного мальчишеской улыбкой.
Ознакомительная версия.