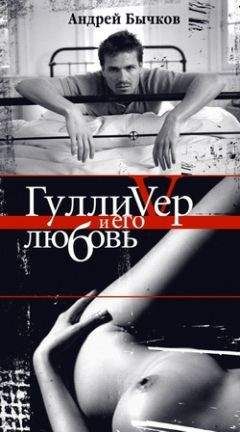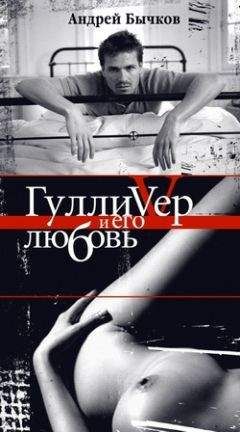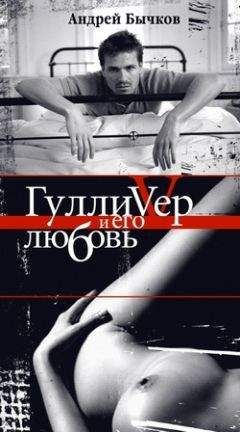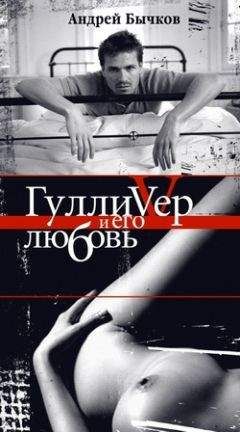– Наверное, – снова улыбнулась она и глубоко вдохнула в себя дым своей любимой травы.
И посмотрела в окно, за которым, проплывало лицо Григория.
Они замолчали. Свет фар от проходящей по шоссе машины пересек веером потолок.
– Я о тебе ничего почти не знаю, – тихо сказал, наконец, он.
– Так же как, впрочем, и я о тебе, – также тихо ответила она.
Он подумал, что же произойдет, если он сейчас ей скажет, что его жизнь кончена, что еще несколько дней назад он проиграл свою жизнь в «форексе»?
«Что будет, если я скажу, что если она хочет, то этот вечер будет последним и для нее?»
– Тебя бросил муж, – сказал он, чтобы найти, наконец, свою безжалостность и прежде всего к самому себе.
Она вздрогнула:
– С чего ты взял?
– Видел в окне, в которое ты посмотрела.
Люба не ответила.
– Ты хотела его убить?
– Что?
– Я хотел спросить, ты хотела бы его убить?
– Почему ты так спрашиваешь?
Он помедлил.
– Ну… мне так кажется.
«Два бокала, в каждый из которых будет брошен яд».
Она вдруг как-то цинично засмеялась:
– Ты, что, хочешь, чтобы я рассказала тебе про свою жизнь?
– Кому же, как не мне.
– А может быть, лучше про…
Она вдруг замолчала и горько усмехнулась. Он взглянул на нее и понял, что за слово она не назвала.
– Тогда… может быть… Хотя… может быть… и я… расскажу тебе, – пробормотал бессвязно, отводя взгляд.
Он знал, что она по-прежнему смотрит на него, не отрываясь. На него и только на него, даже нет, не на него, а в него, и словно бы к чему-то там, в нем, уже прикасается.
И услышал ее тихий голос:
– Все равно противоядия нет.
И тихо ответил:
– Зато есть яд.
Чтобы отвлечь этот ее невыносимый для него сейчас в своей светлости взгляд, он взял бутылку. И с шумом, с какой-то яростной жаждой опрокинул горлышком вниз. «Мерло» полилось, падая и пенясь, в бокал, поднимаясь и наполняя. Его рука дрожала, но он налил себе до самого края, а потом, также, и ей.
– В самом деле, – сказал Евгений вдруг с какой-то новой и радостной интонацией, – представь себе, как будто у меня действительно есть яд. И я мог бы им с тобой поделиться.
Он лихорадочно засмеялся, думая о том, что для нее это звучит, как шутка, и что она не знает, что он-то уже действительно прыгнул в эту ледяную воду и уже действительно пытается плыть, зная, что в такой воде до другого берега не добраться. Да его, скорее всего, и нет, этого другого берега, и потому можно уже не заботиться о стиле, как плыть – героический кролль, ироничный брасс или какой-нибудь полумагический баттерфляй…
– Тебе, что, действительно так плохо?
Его бросило в дрожь, а потом в жар.
– Не делай вид, что и тебе хорошо.
Он все же сделал над собой усилие и сжал зубы, словно бы кладя свою дрожь на лопатки и прижимая к полу.
«Знает, догадывается? Но пока же только слова, которые могут так и остаться только словами».
Он взял свой бокал и отпил, не замечая и замечая, что все же что-то уже изменилось и в этой комнате, и в Любе, и в нем. Словно бы что-то уже наклонилось и теперь станет наклоняться все круче и круче, пока не останется ничего, кроме как отпустить ладони и заскользить, вниз и только вниз, набирая и набирая скорость.
– Не делай вид, – жестко начал он с тех же слов, – что ты здесь впервые. Я думаю, ты все же догадалась, почему я сказал тебе тогда, что мы могли бы встретиться еще один раз.
Она как-то странно, шумно задышала.
– Ну-у…
Голос ее задрожал.
– Ну, – продолжила, еле справляясь с дыханием, – тебе же понравилось делать это… А это моя работа.
– Не ври, ты же не блядь! Ты сказала, что в этой роли ты делала это в первый раз.
Что-то чудовищное, неумолимое и безжалостное, что теперь словно бы поменяло свое направление и что теперь наконец-то начало двигаться от него к ней и проникать в нее.
– Так это или не так?! – почти выкрикнул он.
– Да, – испуганно ответила она.
«Как бабочка, уже приколотая к цветку моего ковра».
Он почувствовал в себе зло. Его изначальная священная ненависть словно бы наконец вернулась к нему, и где-то глубоко в себе, он усмехнулся:
«Так зачем же мне кончать еще и с собой?»
И рассмеялся вслух.
– Ты, что, сумасшедший? – она попыталась встать. – Блин, да тебе терапия нужна, а не проститутки!
И тогда он засмеялся еще и еще громче, и сделал шаг к письменному столу:
– Так во-от же она, те-ра-пи-ия!
И выдвинул ящик и достал эти таблетки – в серебряной, разворачивающейся сейчас с каким-то волшебным легким звоном фольге.
Таблетки были маленькие и теперь они словно бы как-то странно светились в этой своей маленькой аккуратной белизне.
Люба так и не успела встать, она лишь подняла голову и с каким-то детским удивлением смотрела на стоящего перед ней Евгения и на то, что он держал в руках.
И словно бы над ней возвышался не он, а какой-то темный лучезарный ангел. Ангел с невидимыми крыльями из черного света, прозрачными, как черный шелк, когда через него смотришь на солнце.
– Это действительно яд, – тихо сказал он. – И… все должно произойти часа через три.
Он замолчал. Ошеломленная, она не знала, что ответить.
– Ты можешь сейчас встать и уйти, – сказал тогда он. – Может быть, я и ошибся, выбрав для этой роли тебя.
Люба замерла и не двигалась.
«Словно бы уже как часть узора ковра…»
– Тебя здесь и в самом деле никто не держит, – тихо повторил он. – Я хочу честной игры.
Она, однако, по-прежнему, молчала.
И тогда он продолжил:
– Я мог бы рассказать тебе, почему я решил сделать это… и сделать это именно так. Но при условии, что ты останешься. А это значит, что ты должна будешь взять из этих четырех таблеток две. И, по крайней мере, одну из них бросить в один из бокалов.
Он встал и вышел, был поздний час, когда он, наконец, вышел из своей квартиры. Он знал, что он уже мертв и что и она мертва. Вино, дорогое вино, было выпито.
Теперь – только это странное, легкое чувство, как будто они никогда не были знакомы, как будто между ними никогда ничего и не было. Он вышел в пространство, а она осталась лежать там, в его комнате, лежать с открытыми глазами, мертвая и улыбающаяся своему, а может быть, и его обману.
Теперь, мертвые, они знают, что, конечно же, встретятся снова, завтра или послезавтра или когда-нибудь. И тогда они не испугаются обыденности, а чего же ее пугаться, ведь теперь, отныне, они для обыденности мертвы, ибо Бог – в своем блистательном отсутствии и в своей неизменной всепроникающей нереальности – все же почему-то дал им время.
Евгений достал сигарету и закурил, получая маленькое, теперь уже не обесцененное наслаждение. Занимался рассвет. Полусонное еще небо, неоформившиеся пока облака, их тихие, почти бесследные перья, и под ними, вокруг, тихие дома, призрачные кровати, на которых спят те, кто все еще называют себя людьми.
«Ты один, ты снова стоишь посреди шоссе между двух линий, и еще не возникли упругие и невидимые границы, неумолимые, отводящие каждому его узкий путь».
Он усмехнулся и отбросил сигарету.
«Значит, теперь тебя зовут не Евгений?»
Бесконечная, разлившаяся по улицам смерть, светлое утро его ирреальности. Черные целлофановые пакеты, уносимые ветром из мусорного бака, что обгоняют друг друга, словно андалузские псы, подчиняясь теперь лишь законам этой странной отсрочки, переворачиваясь, нелепо подпрыгивая и шурша.
«Как на Луне…»
«Да, как на Луне».
Скоро высветят серые стены домов первые лучи мертвого солнца, пробуждая мертвых к их тихим посмертным завтракам. Отныне, рассыпавшись в прах, они будут продолжать свое идеальное путешествие, так ничего и не заметив, так и не догадавшись, что они теперь уже – не они. Неузнанный киоск, загадочный троллейбус и таинственный прохожий, так и не постигший обратной стороны своего лица.
«Отныне».
Мертвое солнце уже щедро дарило свой первый рассвет, разливая из-за крыш пушистые, нежгуче ласковые лучи.
«Хиросима тоски моей, как хорошо, что тебя больше нет».
Он заглянул в два-три спешащих мимо случайных лица. Зевали, обнаруживая зевотой рты. Оставались в телах и ускользали.
Беспечный призрак, он вдруг увидел призрачное такси с исчезающим в нем призрачным негром все в той же малиновой беретке, и все тот же коричневатый со светлой изнанкой палец упирался в призрачное стекло.
Небо уже расчистилось и теперь его голубизна словно бы погружала Евгения в свой новый бесшумный звон, в широкий и бесконечный колодец, бесшумный и нежный, празднующий вместе с ним его первое посмертное утро.
Он вышел на канал. Сонный бомж под яблоней, на картонных коробках, ветхозаветный, как Ной, за спиной которого отныне проплывает сверхсовременный пятипалубный лайнер, увенчанный элегантной тарелкой спутниковой антенны… Через час он, Евгений, вернется опять в свою комнату, где она, эта женщина, все еще спит. Он потрогает ее мертвые волосы, он коснется своими мертвыми губами ее мертвых губ, чтобы она снова проснулась здесь, в своей ирреальности… А может быть, он и не вернется, ведь теперь все, что его – не его. И что ее – не ее.