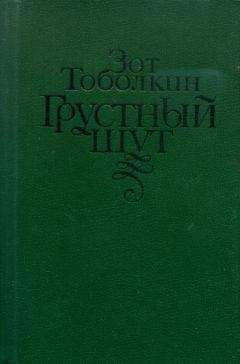Пикан молился. Сказать по правде, память на молитвы у него слабовата. Но ведь суть служения богу — он это давно установил — не в том, чтобы твердить сотни кем-то сочиненных слов, а в том, чтобы поверять ему свои собственные, тайно выношенные мысли. Если ж непременно нужна уставная молитва, что ж, можно троекратно повторить «Отче наш» или другую, усвоенную с самого детства. Но вот как быть с проповедями? Проповеди произносили все настоящие ревнители истинной веры. Особливо ж прославился ими покойный Аввакум. Ипат, ретивый последователь его, того пламени в речах не имел. Туго, со скрипом, вытягивал слово за уши. Ивана и вовсе слова не слушались. Кабы их можно было вытесать, как, скажем, петуха деревянного или конек на крышу! Топором Иван искусней, чем языком, владеет. Но слово топорное душу человеческую не заденет. Разве что сам топор… Многих, ох многих лишил топор языка с головою вместе.
«Отче наш, иже еси на небеси… да святится имя твое, да приидет царствие твое…» — упав на колени в снег, бормочет Пикан. Старшой в конвое поторапливает. Он кругломорд, насмешлив, рыж и ленив. Видно, избаловался на службе. Пикан более всего от него натерпелся.
— Полно богу-то докучать! — скалит зубы старшой и велит трогаться.
Казаки едут в санях. Пикан с Потаповной бредут сзади, хотя второй возок выделен князем для них. Потаповна едва жива.
Бредут полями, бредут лесами. Снежно, голодно. Лишь на ночлеге какой-нибудь сердобольный хозяин или отзывчивая на беду хозяйка сунут ссыльным краюху хлеба — тем и кормятся. По два, мало — по три дня во рту единой крошки хлебной не бывало. Да и княжеские отметины след оставили. Но чем дальше — боль меньше. Видно, дорога лечит. Иван смолоду ходить привычен. Да и Потаповна хаживала немало: и в море мозолей веслом понабивала, и в лесу тропок наторила бессчетно. А травушки-то, травушки-то сколь порвала! Ой-ёченьки! Изба по углам вся травами увешана. Простуда ли, бессонница ль мучит, пища ли впрок не пошла — все травами пользовала. Собиралась Дуне умение свое передать, та к знахарству не склонна. Тимофей легче усваивал материнские уроки. Всякую всячину варил из трав для себя, для зверюшек. Баловник он и пересмешник — ни в мать, ни в отца, — в деда, наверно. Тот, бывало, молится, да вдруг как загогочет! С чего бы? За молитвой-то никонианам разные клички придумывает. Тимофей тоже горазд на выдумки. Иной раз такое сморозит — сто человек не придумают. А где слов мало — возьмет да и нарисует аль резцом вырежет. Баловал его дедко Ипатий. И отец из всех отличает. Только внешне суровится. А для Дуняши на добрые слова не скупится… Где они теперь, мои горькие? Где кровинушки? Спаси и сохрани их, Микола милостивый! Нам с отцом уж немного осталось. Может, в пути упадем…
— Шибче шагай, ведьма! Так до ильина дня прошлепаем! — старшой опоясал Потаповну кнутом, сбил ее и расхохотался. — Несладко? А ты заколдуй меня! В цветок преврати аль в змея…
— Чо тя превращать-то? И так змей, — бухнул Пикан. Получив удар по лицу, выдернул обидчика из саней, уронил и начал таскать по снегу. Конвой, хоть и не сразу, может, нарочно выжидали — пускай старшого мордой повозит! — кинулся на выручку. Скрутили помора, опять избили.
— Так-то лучше, — постанывая, бормотал старшой. Крепки кулаки у раскольника!.. О-ох! — Вы тоже хороши! — накинулся он на подчиненных. — Могли бы и раньше его подмять.
— Боже милостивый, буди меня грешного, — взывал к богу Пикан, браня себя за невоздержанность. Терпеть надобно, все вынести, что ниспослано жестокой судьбой в испытание. Терпел же Иисус, сын божий, не роптал, Пикан тоже все вынесет. Только бы не измывались над верной подругой, над Потаповной. Молил бога дать ей сил. Рядом, горбясь, шагала Потаповна, улыбалась морщеными разбитыми губами, сплевывала стынущую на лету кровь.
— Дойдешь, Антонидушка? — тихонько пытал Пикан, приноравливаясь к неширокому шагу жены.
— Далеко ль до Тобольска-то?
— Столько, да полстолька, да еще четверть столька, — скалил зубы старшой.
— Добреду, — бодро отвечала Потаповна, изумляя старшого. — Боле того хаживала.
Страх брал малого: не оборотни ли? Бьют их, увечат, терзают голодом, морозят — живут, окаянные! Конвою невтерпеж: холод до костей пробирает, дерет через тулупы, через меховые пимы собачьи. А эти двое не жалуются, идут потихоньку, переговариваются, словно за век не наговорились.
Старушонке уж в глызину пора превратиться, она воркует о чем-то. Оборотни, чистые оборотни!
Старшой поглубже утопил нос в воротник, толкнул сидящего рядом служилого:
— Слышь, Малафейко! Не иначе колдунов везем?
— Колдуны богу не молятся.
— И то верно. Дак, может, святые они, а? — старшой успокоился. Сразу-то не обратил внимания, что ссыльные не наговоры шепчут — молитвы.
Скучно в дороге. Со скуки всякая блажь в башку лезет. И пел старшой, и побывальщинки сказывал, сны видел. Те сны Малафей разгадывал. Часто их видел. Что ж не видеть-то, когда поверх борчатки нагольный тулупище. И вся провизия в мешке. Жрет хлеб и сало тайком, сволочь! А скажи — в зубы схлопочешь. Когда подвыпьет — смотрины устраивает своему малочисленному войску. На ветру пронзающем под ружьем держит. Ох, жизнь собачья! Зачем только на свет родились? Сами муки неисчислимые терпим и людей, ни в чем не повинных, мучим, гоним бог весть куда. Где она, эта Сибирь? Где Тобольск, в котором, по слухам, многие православные нашли себе упокой? Судьбина проклятая, заголи ей задницу! Шарахнуть бы по затылку старшого, из саней вышвырнуть да, тулупчик его надев, подремать вволю. А потом сальца откушать, сухариков погрызть, разделив с товарищами. Они во втором возке часуют.
Старшой дремлет, зажав в кулаке недоеденный кус сала. На бороде слюна застыла. Боров ненасытный!
Такой ненавистью сдавило сердце — задушил бы старшого сонным. Да вот свидетели…
«А пожалуй, не пикнут», — решил Малафей.
Возок на гору взобрался. Внизу пропасть, каменные зубы утеса. На один из зубов угодишь — пронзит насквозь. Распустив руки Пикану, казак моргнул:
— Помоги-ка!
Вдвоем опрокинули возок — старшой вниз покатился. Не успел проснуться, как оказался на том свете, стукнувшись виском о каменное острие.
— Беда-а-а! Старшой убился-я-а! — заблажил Малафей, упреждая взглядом Пикана.
Казаки в заднем возке встряхнулись, продрали глаза. Остановив лошадей, подскочили к Малафею:
— Пошто выпал? Как?
— Понесли кони… опрокинули. Я как раз погреться выскочил. Догоняю — он уж туда полетел… — утирая лукавые слезы, частил Малафей.
— Выскочил… смотрел бы в оба, — упрекнул его рыжий казак дюжий. — Эдак мы всех порастеряем.
— Старообрядец-то пошто развязан? — спросил другой казак, сутулый и долгий, ощупав Пикана недоверчивым взглядом.
— Ефим Егорыч старушонку нести велел — совсем сомлела, — нашелся Малафей. А слезы из полуприкрытых, все схватывающих глаз сыпались, сыпались.
Потаповна крестилась, беззвучно шевелила губами, молясь за убиенного. Пикан водил сумрачными бровями, хрипло прокашливался. Просиверило в пути. Как бы не обезножеть.
— Ну ты! Хайло-то свое притвори! — начальственно прикрикнул Малафей, моргнув староверу.
Все решили: быть Малафею старшим. К тому жив службу всех раньше поверстан. Он поупрямился для вида, потом как бы нехотя уступил:
— Ну, коль выбрали — не пожалеете. Тулупчик по очереди носить станем. Щас твой черед, Орефий. Надень.
Казак, сутулый, подозрительный, сразу обмяк, тулуп принял без возражений. Если и заподозрил что — смолчит. Да и Малафей непрост. У него на всякую рыбку приманка.
— За Ефим Егорычем-то кому лезть? — обвел товарищей взглядом, остановился на Орефий, сразу потерявшем в росте. Казаки молчали. Кому головы своей не жаль? Спуск гибельный.
— Тело-то надо земле предать. Крещен был покойничек-то… — настаивал Малафей, давя взглядом Орефия. Стра-ашно! А прикажет старшой — полезешь. «Не на меня бы выбор пал…» — думал каждый.
— Я добуду кобеля вашего, — пробурчал Пикан. Все облегченно вздохнули. Потаповна ахнула: «Мыслимо ли: сам смерть себе выбрал. Разобьется — следом за ним прыгну». Отговаривать мужа не стала. Знала: бесполезно. Срастив двое вожжей, верхний конец Пикан подал старшому:
— Сам выберусь, ежели господь не попустит. Убиенного примете.
— Убиенного? — опять прицепился Орефий. — Кто ж его убил?
— Рука господня, — коротко отозвался Пикан и полез. Спускался ловко, расчетливо, пальцы отыскивали в скалах незаметные глазу щели, нащупывали зацепки. Добравшись до карниза, сделал передышку.
— Эй, пошевеливайся там! — торопил Малафей.
— Скоро надо — лезь сам, — огрызнулся Пикан, не двигаясь. «Вот жил человек, — думал о покойнике, — злобствовал. Кто добрым словом теперь помянет?»