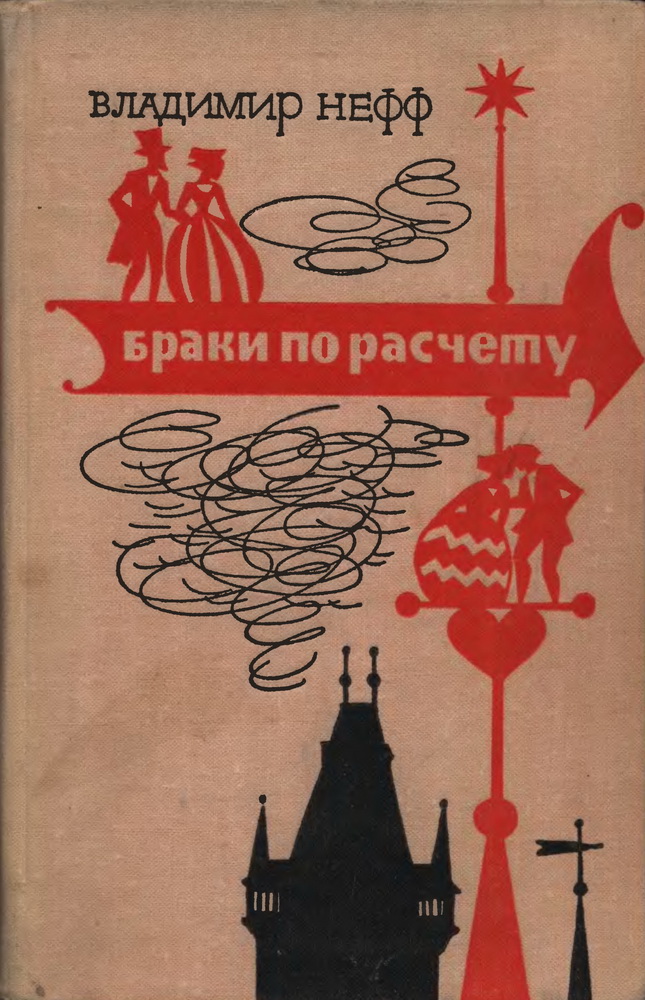угодно, только не оставаться одной, не оставаться с Аннерль, только быть с ним, поблизости от него!
— Вы смелая женщина, — галантно сказал он, когда они спускались по лестнице. — Забава эта, правда, вполне невинна, в сущности, мы ничего не делаем, просто слушаем, что говорит во сне тетя Амалия, но те, кто ни разу этого не видел, обычно вначале чуть-чуть трусят.
Лиза не ответила, она только искоса глянула на него, словно черпала силы в том, что видела его лицо. Но когда они вошли в короткий коридор, увешанный оленьими рогами и гравюрами на охотничьи сюжеты в богатых резных рамках, мужество вдруг совершенно покинуло ее. Порыв теплого воздуха, вздувший занавес на приоткрытом окне, поколебал пламя Оскаровой свечи, и тени рогов, словно ожив, заплясали на стене. Тут Лизе послышалась за стеной какая-то тихая, странная музыка, мелодический свист и скрип — совершенно потусторонние звуки.
— Кто это играет? — шепотом спросила она, остановившись.
Оскар ласково ответил, что тревожиться ей не надо. Это всего лишь маленькая шарманка, на ней играют, чтобы привести тетю Амалию в состояние транса; она ведь должна впасть в полную прострацию, чтоб стать медиумом, посредником между миром живых и миром духов, а для этого ей необходима музыка.
— Пожалуйста, уведите меня назад, уведите меня назад! — прошептала Лиза, в страхе прижимаясь к его плечу.
Ей казалось — весь мир потерял рассудок, ополчился на нее, наполнился коварными, враждебными призраками и тенями, и он, Оскар Дынбир, — ее последняя, единственная опора и защита. А он, увидев ее бледное лицо, обращенное к нему со страстной преданностью, подумал в это же самое время: ага, красотка, видно, в тихом-то омуте черти водятся? Ишь, и тебе сладенького захотелось? И ты хочешь поклевать? Да ради бога, отчего же — охотно!
Он обнял ее и поцеловал в губы. Свеча, дрожавшая в его руке, погасла. Лиза не сопротивлялась — она только застонала. «То, что я делаю, — ужасно скверно», — подумала она еще, и эта мысль до того усилила сладость его поцелуя, что сознание у нее помутилось. Дынбир, все время целуя ее, повел ее в темноте к своей спальне, свист шарманки летел им вслед, а он на ощупь ослаблял крючки, развязывал ленты, расстегивал пуговицы ее сложного туалета, отделанного желтыми розами и черными присобранными воланами.
Г л а в а т р е т ь я
УДАР ЗА УДАРОМ
Десять лет назад, стало быть, еще до баталии в Ломбардии, когда Пецольд работал на кирпичном заводе в Котлярке, он однажды додумался до того, чтобы от имени всех рабочих попросить хозяина повысить им плату; а хозяин от имени тех же рабочих взял да и вышвырнул его на улицу. Тогда он со своей женой, рыжей Фанкой, бросил якорь на карлинском уксусном заводе Эккенера, но после нескольких лет работы у вонючего чана тяжело захворал легкими; его болезнь и заставила Эккенера отремонтировать цехи, а главное — устроить в них вентиляцию. А потом он сделался грузчиком у чешского экспедитора Мартина Недобыла, и однажды суровой зимой страшно обжег зазябшие руки, когда хотел согреть их, как тогда делалось, облив спиртом и поджегши его. От этого несчастья получили профит все недобыловские работники, потому что пани Валентина, чтобы искоренить варварский обычай — согревать руки горящим спиртом, — раздала им к рождеству по паре шерстяных рукавиц. Вот так вечно с ним: сам споткнется, возьмет на себя неприятность, обожжется на чем-нибудь, голову расшибет, — а другим польза. В старые времена, когда только создавались фамилии простых людей, как пить дать досталась бы ему фамилия Барашек, какую носят бесчисленные терпеливые и многострадальные чешские людишки; но он жил в девятнадцатом веке, его родовое прозвище уже несколько веков как сложилось и было зарегистрировано официально, и назывался он, бог весть почему, Пецольд; «Барашком» же его звали просто в шутку.
Его маменька, известная нам бабка Пецольдова, строга была к сыну. «Никуда ты не пойдешь, овечка божья», — заявила она ему, когда он в воскресенье — дело было уже в шестьдесят восьмом году, накануне дня св. Вацлава, патрона земли чешской, — выразил желание принять участие в завтрашней сходке на горе Витков, на «Жижкаперке», куда подметные листки приглашали рабочих Праги, Смихова и Карлина, чтобы там потолковать о «необходимости представительства от рабочего класса в политических делах, особливо о справедливом рабочем представительстве в сейме Королевства Чешского». Программа эта, как видно, вызывала резкий протест у бабки Пецольдовой.
— Попробуй только за порог выйти, — сказала она сыну между прочим, — как возьму кочергу да ахну тебя по башке. Очень надо тебе туда лезть, дубина! Тебя там не хватало! Ты у солидного хозяина работаешь, завтра святой Вацлав, у нас гусь с капустой и кнедликами — думаешь, у всех он есть?
Фанка, жена, была мягче.
— Не говори глупости, Матоуш, — сказала она, когда муж на бабкину отповедь робко отвечал, что это, как бы сказать, его святой долг — пойти на «Жижкаперк», и ничего с ним-де там не случится. — Как это ты говоришь, — ничего не случится? Почему это с тобой ничего не случится? С каких это пор с тобой ничего не может случиться? Мало ли уже в жизни с тобой случалось? И мало ли уже пересажали народу за всякие дурацкие сходки? Помни, у тебя дети!
Дети действительно были, четверо: старший Ферда, затем Карел, Руженка и Валентина. Ферда, парнишка проворный, — это он когда-то пас недобыловских лошадей, — был теперь в ученье на всем готовом, мальчиком в лавке у богатого Фанкиного родственника в Младой Болеслави. Лошадей вместо него пас его братишка Карел, шести с половиной лет, уже начавший и в школу кое-когда заглядывать. Руженке было только два годика, а Валентину, крестницу пани Валентины, Фанка еще кормила грудью. Вот уж глупость-то была, на старости лет двух детей на свет произвести, да еще девчонок, и бабка Пецольдова за это костила сына почем зря — да ведь после драки чего ж кулаками-то махать. Работая грузчиком, Пецольд вернул утраченное было здоровье — постоянное пребывание на свежем воздухе очистило легкие, а с возвращением здоровья вернулся и бес в ребро; тем более, что Фанка, работница уксусного завода Эккенера — она наклеивала там ярлыки, — в свои тридцать пять лет была еще аппетитна, с прекрасными рыжими как медь — или, вернее, как червонное золото, — волосами, с мягким, женственным лицом, которому придавала особое очарование большая веснушка, сидевшая прямо посреди левой щеки.
Услыхав от сына