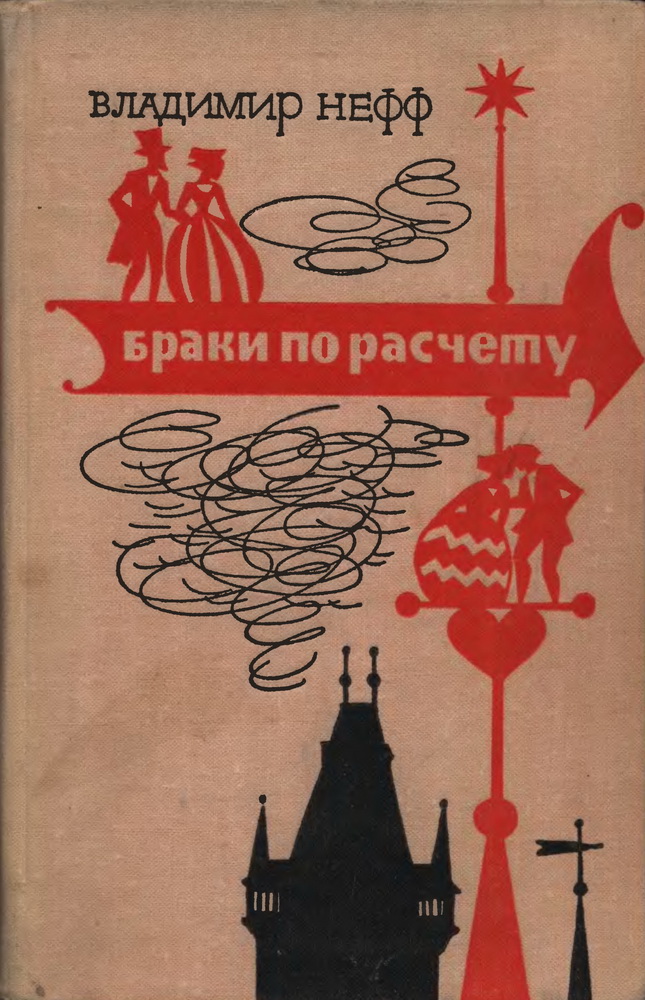сплевывали длинной дугой под колеса фургонов, выстроенных в два ряда вдоль двора, а перезвон колоколов, доносившийся из города, подчеркивал мирный характер их беседы. Но бабка, караулившая поодаль, не была обманута покорностью сына.
— Сам только и думает, как бы улепетнуть, — сказала она Фанке.
И Фанка, которая с Валентинкой на руках уже несколько раз прошла мимо собеседников, чтобы подслушать их речи, была того же мнения.
— Толкуют, чем лучше сапоги смазывать, дегтем или ваксой, — обеспокоенно проговорила она. — Эх, не подумали мы об этом — надо бы сапоги его спрятать. Или штаны.
Бабка ответила, что толку от этого никакого бы не было. Пецольд, ее сынок, способен удрать и босой, и даже без штанов, даром только срамился бы.
— Нет, нельзя нам с него глаз спускать, только это и поможет, — добавила она. — Ступайте скорее, поглядите, там он еще или нет.
Фанка направилась к конюшне, чтобы поглядеть, там ли еще ее муж, а его уже и след простыл. Она застала одного лишь Небойсу, тот стоял в открытых дверях конюшни, из которой доносилось теплое фырканье и перестук копыт, и прочищал соломинкой черенок своей трубки; Небойса очень удивился, когда Фанка спросила его, куда исчез Пецольд.
— Сказал, домой пойдет, хочет вздремнуть малость, — ответил он. — Или, может, в сарай заглянул, он еще говорил, нужна ему чурочка, хочет вырезать для Карлика руль к лодочке. Сходите посмотрите, может, там и найдете.
Она сходила посмотреть, но мужа не нашла. Потому что Пецольд, покинув Небойсу, прокрался по двору, прячась за повозками, пока не достиг крытого мебельного фургона, стоявшего у самых ворот, и там стал ждать момента. Этот момент скоро настал: в кухне послышалось знакомое шипение, и бабка, подметавшая кирпичные ступеньки черного крыльца, бросила веник и с криком: «Иисусе Христе, молоко!» — кинулась в дом. В это же время Фанка с ребенком вошла за ней в дом, и Пецольд, не колеблясь заработал своими длинными ногами, и был таков.
Дорога из Комотовки была почти безлюдной; зато на венский тракт из Новых ворот валили толпы, смешиваясь с двумя другими потоками, одним — от Конных ворот, другим — с севера, от Поржичских ворот и от моста над путями Главного вокзала; все три потока сливались в такую широкую шумную реку, что тракт, казалось, вышел из берегов. Западный пологий склон горы Витков, или «Жижкаперка», куда все держали путь, чернел тысячами казавшихся издали крошечными фигурок, непрерывающиеся шеренги их извивались среди кустов и деревьев, а шум бесчисленных голосов сливался в гневное, словно пчелиное жужжание, и далеко разносился вокруг.
Пецольд почувствовал облегчение, когда исчез в толпе незнакомых людей, возбужденных общей опасностью, среди этих фабричных и ремесленников; он был счастлив, когда его фуражка с заломленным лаковым козырьком затерялась среди прочих таких же фуражек, мягких шляп и цилиндров, когда его лицо смешалось с тысячью лиц, по большей части празднично отмытых и поцарапанных от слишком усердного бритья. Шли кузнецы с завода Рингхоффера, — целая река! — и ткачи с фабрики Поргеса, и спичечники Смолика, и красильщики, и печатники, и каменщики, а еще — плотогоны из Подскалья, и виноделы, и столяры, и сапожники, и еще — кирпичники и железнодорожники, и мыловары, и котельщики, и еще — народ с боен, из пекарен, и пивных заводов, и портняжных мастерских, и подручные из лавок, и золотари — тот в тщательно почищенном и выколоченном воскресном костюме, тот в простом, тот — во взятом напрокат. Затерявшись в толпе, Пецольд перестал быть Пецольдом, он стал одним из толпы; здесь его не отыщет ни бабка, ни Фанка, теперь-то уж они его не достигнут, хотя бы пустились за ним в семимильных сапогах-скороходах.
Но если невозможно было бабке или Фанке разыскать его, Пецольда, то так же и ему, Пецольду, невозможно было разыскать тут дружка своего Фишля. Но наперекор такой невозможности он все-таки углядел его, своего верного и надежного товарища, едва успел сделать несколько медленных шагов, поминутно останавливаясь со всей толпой: Фишль сидел на обочине дороги, на куче щебня, и вытягивал длинную шею, высматривая Пецольда.
— Слава богу, наконец-то, — сказал Фишль, завидя друга, встал и подошел к Пецольду — маленький, узловатый, с мелким резким лицом и несоразмерно длинным носом, который в сочетании с длинной шеей делал его похожим на странную птицу. — Я уж думал, ты не придешь.
На это Пецольд, обрадованный невероятной легкостью их встречи, рассказал, что он и впрямь едва не остался дома, потому как бабы не хотели его пустить. И Фишль сочувственно кивнул, говоря, что и его бабы не хотели пускать; и он готов побиться об заклад, что почти каждого из этих ребят, которые в такой давке прут на «Жижкаперк», словно их там ждет спасение души или по меньшей мере гулянье с танцами, не хотели пустить бабы, потому что, мой милый, нынче тут будет жарко, нынче кое-кому зададут тут баню, кое-кому придется тут чертовски туго; известно ли Пецольду, что весь пражский гарнизон поднят по тревоге? Ну да, он, Пецольд, как раз и хотел бы наконец толком узнать, что там сегодня будет, с чего это народ сбегается туда, словно тараканы к пиву?
— А ты не знаешь? — удивился Фишль. — Совет там будет!
В знак насмешливого неодобрения Пецольдовой наивности Фишль издал ртом и крючковатым своим носом целую серию шипящих, фыркающих и причмокивающих звуков, потом еще раз сказал:
— Будет совет! Двадцать тысяч народу сойдется на тот совет!
— Почем ты знаешь, что именно двадцать тысяч?
— Двадцать тысяч, — с мрачной решимостью повторил Фишль. — Обо всех митингах так и пишут: что, мол, собралось двадцать тысяч, почему бы и на нашем не сойтись двадцати тысячам, чем мы хуже? У нас и двадцать пять тысяч наберется. А только как это будут советоваться двадцать пять тысяч человек?
И он принялся пространно объяснять, почему, по его мнению, невозможно двадцати пяти тысячам человек о чем-либо толком договориться. Когда он, Фишль, начинает советоваться о чем-нибудь со своей женой Руженой, то тут дело просто: он скажет свое, она свое, все это сваливают в кучу, он чуть уступит, она уступит, потом он добавит, она добавит — и готово дело. Когда же в совещание встревает теща, тогда уже труднее, потому как если он скажет свое и Ружена свое, то теща уже скажет совсем другое, не то, что сказал Фишль, и не то, что сказала Ружена, и начинаются всякие разговоры и грызня. Но еще хуже, если в совещание впутывается брат Фишля Микулаш: такая уж у него,