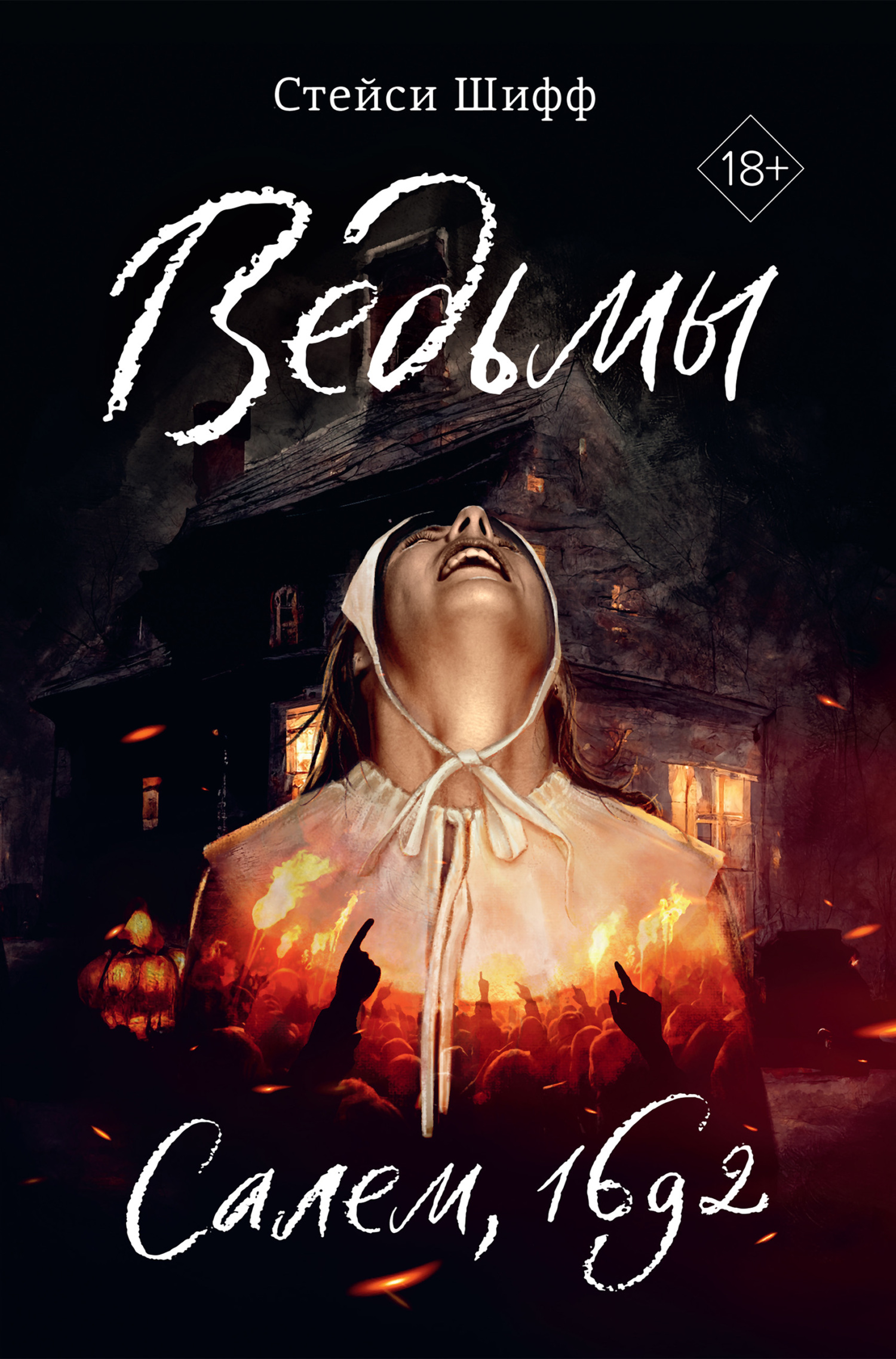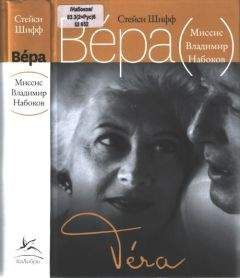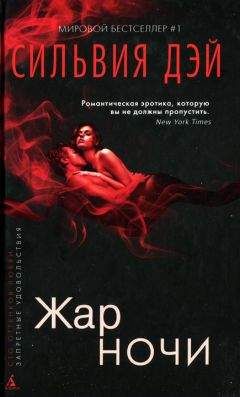политика и бизнес – и вопрос защиты своих коммерческих интересов – сплачивали судей. Едва ли не у каждого имелся серьезный приграничный бизнес. Все они понесли огромные финансовые потери в 1689 и 1690 годах, когда индейцы уничтожили их предприятия. Стаутон и Сьюэлл вместе ездили в Нью-Йорк, чтобы заручиться поддержкой перед совместной атакой на Монреаль; Хэторн и Корвин ездили в Мэн и Нью-Гемпшир осматривать пограничные защитные укрепления. В 1681 году Стаутона хотели снова отправить в Лондон, попробовать вести переговоры о новой хартии; в итоге это перепоручили Ричардсу – Стаутон слишком хорошо знал своих наглых новоанглийских соплеменников и отказался.
Сэмюэл Сьюэлл регулярно проводил время с большинством других судей. Стаутон и Уинтроп были в числе его ближайших друзей; но ближе всего он дружил с Нойесом. Страшно занятой шериф Корвин – 7 октября ему предстояла еще одна конфискация – приходился племянником судье Уинтропу и зятем судье Гедни. Такие связи прослеживались по всей Новой Англии, где небольшое количество семей было связано в один тугой узел. Судьи по колдовским делам – и пасторы, к которым они обращались и которым по большей части платили жалованье, – соблюдали посты и вместе спорили о смысле Откровения, вместе молились, ужинали, плавали и ходили под парусом. Они крестили, учили и оплакивали детей друг друга (Уиллард, к примеру, окрестил и похоронил семерых отпрысков Сэмюэла Сьюэлла). Они заботились о вдовах и обставляли поместья друг друга. И лично несли гроб, когда кто-то из них умирал.
Они вместе устроили заговор и свергли правительство [63]. Коттон Мэзер написал декларацию в оправдание восстания против Андроса, которая была прочитана перед огромной толпой с галереи палаты совета. Стаутон, в окружении нескольких будущих судей по колдовским делам, вынес обвинение смещенному губернатору в здании ратуши. В Лондоне Инкриз Мэзер изо всех сил лоббировал издание новой хартии – и ему потом пришлось некоторое время защищаться от обвинений в предательстве интересов соотечественников. Вице-губернатор Стаутон – по совместительству оказавшийся главным судьей и высшим государственным деятелем в Массачусетсе – очень хотел доказать, что они вернули колонию на рельсы стабильности. После того как они агитировали за переворот и мастерски плели интриги (задолго до ведьмовских шабашей), этим людям требовалось продемонстрировать, что Новая Англия сама может управляться со своими делами. Это могло отпугнуть захватчиков. Для горстки нонконформистов они неплохо встроились в жесткие рамки – прошло какое-то время, прежде чем из метрополии начали просачиваться первые намеки на недовольство. У них имелись причины ходить строем, имелась для этого и серьезная политическая мотивация. Инкриз Мэзер хвастался в 1691 году, что «нет в мире другого правительства, на которое бы один человек возложил больше обязательств, чем я возложил на наше правительство» [64]. Однако это имело примерно такое же отношение к салемским событиям, как летающие обезьяны или каминные медузы. В октябре один критик процессов предварил свои замечания заявлением: он предпочел бы отгрызть себе пальцы, чем «добровольно начать швыряться грязью во власть или хоть как-то ее порицать» [65]. Он был прихожанином Уилларда и близким другом Сьюэлла. А скоро стал еще и свойственником Уинтропа, женившись на его родственнице.
На протяжении того знойного лета все нити сюжета держали в руках исключительно те, кто обвинял и каялся. Их рассказы хорошо укладывались в общую схему. Но с середины сентября суд стал регулярно натыкаться на препятствия. Сначала в список ведьм попала жена преподобного Хейла. Мать троих маленьких детей была на восьмом месяце беременности. Хейл начал поднимать неприятные вопросы, как на разбирательстве дела Берроуза. (В ходе вынесения обвинений возникла еще одна неловкость: миссис Хейл приходилась кузиной преподобному Нойесу.) Примерно в это же время андоверский мировой судья Дадли Брэдстрит, не найдя повода задержать очередную ведьму, отложил свое перо. Плюс ко всему Мэри Эсти подала второе прошение. На этот раз она обращалась не только к судьям, но и выше, к губернатору Фипсу. Приговоренная к повешению через неделю, она смирилась со своей судьбой. «Я прошу не за себя, – писала Эсти, – я знаю, что должна умереть» [66]. Суд делает все возможное, чтобы искоренить колдовство, но действует неправильно. Она берет на себя смелость высказать пару соображений. Может быть, судьи осторожно возьмут с пострадавших девочек письменные показания – и на какое-то время их разделят? Возможно, надо также отделить от остальных одну из признавшихся ведьм. Некоторые из них себя оклеветали.
Еще оставалось неясным, что делать со старым Джайлсом Кори, от которого суд так ничего и не добился. В конце июля в ипсвичской тюрьме он, «очень слабый телом, но при твердой памяти», написал завещание, по которому ферма в сорок гектаров отходила двум его зятьям. Джон Проктер, сосед, с которым Кори то бодался в суде, то пил мировую, повешен. Отлученную от церкви Марту повесят через несколько дней. А ее муж не собирался признаваться, не хотел доставить удовольствие судьям, перед которыми уже несколько раз представал и отказывался произносить ключевую фразу. Упрямый по природе, он стал еще упрямее после тура по новоанглийским тюрьмам. Он знал, что все, кто оказался в стаутоновском суде, обречены. Девочки будут снова и снова нести бред про его фамильяров-черепашек и прозрачные ножи.
Этот человек, хваставшийся, что в жизни ничего не боялся, отказывался произнести требовавшиеся от него пять слов. Отказ, предупреждал Стаутон, приведет к жуткой средневековой пытке – peine forte et dure, что в переводе с французского значит «сильное и продолжительное мучение». Ему на грудь будут класть свинец и камни, еще и еще, пока человек не попросит пощады или не умрет. Об этом наказании вспоминали, но раньше к нему никогда в Новой Англии не прибегали. Когда им пригрозили в последний раз, в 1638 году, женщина, обвинявшаяся в убийстве своего трехлетнего ребенка, выбрала виселицу.
Возможно, 17 сентября охранники вывели Кори либо во внутренний двор салемской тюрьмы, либо через улицу, в поле [67]. Он снял обувь, разделся почти донага и лег на холодную землю, раскинув руки и ноги. На грудь ему положили доску и стали сверху накладывать камни; предположительно в этом участвовал Даунтон, надзиратель-многостаночник. Власти действовали в строгом соответствии с законодательством. Оно требовало, чтобы на обвиняемого давило «столько веса, сколько он может вынести, и более». Кори нельзя было «давать пищу, только в первый день – три кусочка худшего хлеба, а во второй – три глотка стоячей воды, из ближайшего к тюрьме источника». Пытка могла дать результаты в самые первые часы. После какого-то момента становилось слишком поздно. Вокруг образовалось плотное кольцо из зрителей, среди них