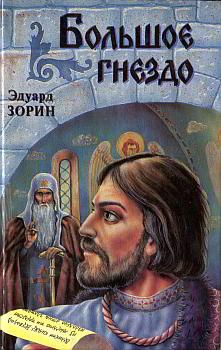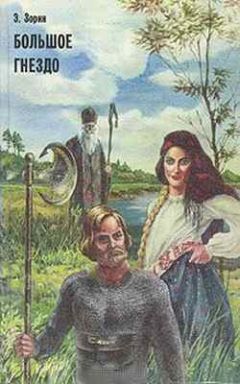— Что ты сказываешь, Кузьма? — отшатнулся от него Одноок. — Да в какой же опале, ежели греха за собой не зрю?
— Грех великий на тебе, боярин, и скоро того греха не избыть. Аль забыл, как водил в поход хромых да слепых, как лучших коней оставлял в табуне, а сам предстал перед князем на клячах?!
— Было такое, грех такой был, — отступил Одноок от Ратьшича и потупил глаза.
— А знаешь ли, как гневался на тебя князь?
— Шибко?
— Ежели бы не моя заступа, ежели бы не пожалел я тебя, боярин, сурово наказал бы тебя Всеволод и на древность рода твоего глядеть бы не стал. Сам ведаешь, рука у князя тяжела — что сделает, о том потом не жалеет… Пропал бы ты, Одноок. А за что? За коней, коих нет у тебя, да за холопов, коим и в хорошие-то дни красная цена — ногата?
— Нешто и впрямь пропал бы?
— Пропал бы. А ежели нынче напомню князю, то и нынче пропадешь!
Страшно сказал Кузьма, поглядел в глаза обмякшего Одноока ледяным взглядом.
Вот и весь разговор. Стал боярин унижаться и заискивать перед Ратьшичем. Кузьма молчал.
— Да скажи хоть словечко, Кузьма, отпусти душу…
— Куды же душу-то твою отпустить? Уж не в монастырь ли собрался, Одноок?
— Можа, и в монастырь… Шибко напугал ты меня, спасу нет. Отпишу земли князю, а сам — в монастырь.
В самый раз дошел боярин. Набрался страху, к балясине [188] прислонился, ногами потрухивает — вот-вот упадет.
— Погоди в монастырь-то спешить, — сказал Ратьшич, поддерживая Одноока под локоток, — сына сперва жени.
— Куды там сына женить! — понемногу приходя в себя, осмысленно поглядел Одноок на Ратьшича. — Кабы невеста была, да кабы срок приспел…
— Невеста сыскалась, а срок давно приспел…
— Ты про что это речи завел? — уже совсем придя в себя, подозрительно оборвал Ратьшича боярин. — Ты куды это поворотил?
— А туды и поворотил, что на Покрова свадьбы на Руси играют. — Аль слышишь впервой?
— Слышу-то не впервой, сам женился на Покрова, да что-то по-чудному ты про Звездана заговорил…
— Нешто сам, боярин, не знал?
— А отколь мне знать? Сын к Словише ушел, со мною не знается…
— Что же не спросишь ты меня, Одноок, кого выбрал Звездан в невесты? — удивился Ратьшич.
— А кого ни выбрал, дело его.
— Не отец разве ты ему?
— Отец-то отец, да он ко мне спиною поворотился. Бродяжничает, живет себе в охотку…
— У князя на службе Звездан, — насупил брови Ратьшич. — И говорить про него так, боярин, не смей. Нынче жаловал ему Всеволод серебряный перстенек со своей руки.
— Вижу, Кузьма, он и твоим любимцем стал, — прищурился Одноок.
— Того не скрываю. А тебе так скажу: весь ты, Одноок, от головы до пят в моей полной воле. И потому исполнишь все, как сказано будет.
Сурово говорил Ратьшич, лазейки для боярина не оставлял. Одноок сразу это почувствовал и снова сошел с лица.
— Сватай сына за Олисаву, Конобееву дочь, — продолжал Кузьма.
— Да что ты! — со страхом перебил его Одноок. — Как же я его за Олисаву-то посватаю, ежели с Конобеем мы лютые враги?
— Сватай сына за Олисаву, — повторил Кузьма, не слушая боярина, — и сговаривайся с ним по обычаю. И чтобы тихо и гладко у вас все было. Не то заступы моей за тебя перед князем не будет.
Ясней ясного сказал, сам обрадовался, как ладно получилось. От такого прямого указа пошатнулся Одноок, как от удара. Даже глаза закрыл, чтобы не так страшно было.
— Смею ли возразить тебе, Кузьма? — сказал он наконец, обретая голос.
— И не смей! — оборвал его Ратьшич, повернулся и пошел к коню.
— А как же в гости? — запоздало всполошился боярин, подскочил, снова придержал Кузьме стремя.
— В гости после наведаюсь, а покуда — бди.
В тяжелом расстройстве оставил Ратьшич боярина, крепкую загадал ему загадку. Пусть думает. А договора порушить он не посмеет, нет.
Мог ли подумать Конобей, что не пустые слова говорил ему Словиша про Одноока, что и впрямь приедет на его двор скупой боярин, что унижаться будет и просить — забери, мол, то, что не мое, что вымогал неправо, и Потяжницы возьми: все равно деревенька на отшибе, никакого от нее проку.
Конобей цену себе набивал, с ответом не поспешал, Олисавы не отдавал, но и не отказывал.
— Не порогом мы поперек тебе встали — есть и получше нас, боярин, — говорил он, радуясь, что может досадить Однооку.
Одноок потел, рукавом опашня осушал мокрый лоб, едва сдерживался, боясь прогневиться.
— Дело не наше, сосед, а молодое. Что получше, а что похуже, не про нас с тобой сказано. Звездан один у меня сын, одна дочь у тебя Олисава.
— Кабы не одна дочь, так я бы и рядиться с тобою не стал, боярин. Преступаю обиду свою, попреками тебе не досаждаю, а разговор вести хочу несуетный, не как на торгу, а по-родственному…
— Да где уж по-родственному-то, где уж, как не на торгу, ежели будущего свояка своего с сумою пустить вознамерился. За тобою приданое, сосед, а ты моей уступке не рад.
— О моем приданом речь впереди. Сговор у нас нонче — покуда не сватовство.
— Да что дале сговариваться-то, ежели я тебе весь свой прежний прибыток уступил?! Ежели и деревенькой не поскупился?! У нас нынче и орала, того гляди, совьются вместе…
— Э, нет, межа — дело святое. Без межи не вотчина, — возразил Конобей, покачивая головой. — Куды какой ласковый разговор повел ты, боярин. Но только словам твоим веры у меня нет.
— А коли веры нет, так почто речь?
— А по то и речь. Ловко ты тогда обвел меня, боярин, — теперь моим же добром торгуешь?
— Нет креста на тебе, сосед! А Потяжницы?
— Потяжницы испокон дедам моим принадлежали…
— Это отколь же ты взял, где же выискал?
— А вот там и выискал. В долговой книге у посадника древняя запись есть, как отец твой у моего батюшки деревеньку-то взял да к своей землице и прирезал. Оттого Потяжницами и прозвали ее, что пять годов тягались из-за нее наши родители…
— Теперь смекаю я, сосед, почто не дает тебе деревенька спокою! — ударил себя ладонью по лбу Одноок.
— Вот и смекай, каково нам с тобою родниться…
— Кто старое помянет, тому глаз вон. Ежели будем мы с тобою на старом рядиться да счеты отцовы и дедовы сводить, так нам и не то, что к Покрову, а и на Сретенье не сговориться.
Снова потливо сделалось боярину, промокло исподнее под нарядным опашнем. Конобей сидел, оскорбляя гостя, в одной рубахе поверх просторных штанов, даже браги на стол не ставил, не то что лучших своих медов, положенных по исстари заведенному обычаю.
Одноок старался пренебрежения не замечать, помнил строгий наказ Кузьмы, изворачивался и вел разговор к концу. Конобей чувствовал это и тщился не упустить счастливого случая, о выгоде своей радел, но и переусердствовать побаивался. С него довольно было уж и того, что отдавал ему Потяжницы Одноок, так нет же, еще и унизить хотел он соседа, еще упрашивать себя заставил. Однако здравый рассудок переборол, и на условия Однооковы он наконец согласился.
— Хорошо, уговорил ты меня, сосед. Бьем по рукам, не то?
— По рукам-то бьем, да еще заминочка махонькая, — облегченно ответил Одноок.
— Какая еще заминочка-то? — насторожился Конобей.
— Такая и заминочка. То, что за Звезданом я даю, про то сговорено. А что ты дашь за Олисавой, о том речь впереди.
За радостью своей совсем упустил Конобей из виду дочернино приданое. Посмурел он, заныло у него сердце в предчувствии беды.
Одноок уселся поудобнее на лавке, опашень снял, свернув, положил рядом, шапку бросил поверх.
— За тобою слово, сосед, — сказал он ласково, оглядывая Конобея, как волк овцу.
Теперь Конобею пришла пора попотеть. Вдруг вспомнил он и про положенное по такому случаю угощение, и про меды, и про обхожденье, и одежки своей устыдился.
Совсем по-хозяйски почувствовал себя в его трапезной Одноок. Восседая на почетном месте, куда проводил его словно из-под земли выросший дворский, пил не какую-нибудь кислую брагу, а подставлял чару под привезенные из Киева драгоценные вина, рыгал и вытирал жирные руки о скатерть рытого бархату с вышитыми серебром по малиновому полю орлами и диковинными зверушками.
Конобею жалко было сладких вин, сам он к ним и не притронулся, пробавляясь прохладным кваском, и, видя жирные пятна, оставленные на скатерти руками Одноока, убивался и прикидывал понесенный убыток. Но то ли еще предстояло ему впереди, то ли еще приготовил Одноок — не для того он извивался и унижался перед соседом, чтобы только насытить свое охочее до чужого угощения чрево!..
— Спасибо тебе за угощенье, сосед, — сказал Одноок, вытирая краем скатерти масляный рот, — а то подумал уж, уйду не солоно хлебавши. Пили мы с тобою меды да вина, ели крылышки лебединые, а слова твоего так сказано и не было. Иль прослушал я, так скажи заново.