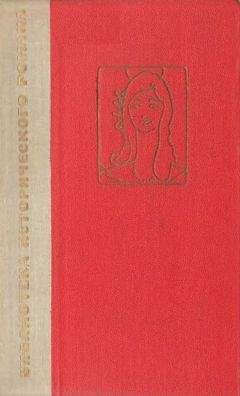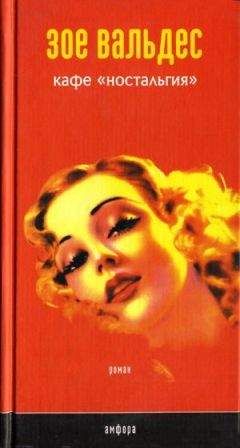— Ранили, говоришь? Вон оно что! Ну так катись-ка ты к чертовой бабушке, и пусть она тебе открывает! Мать моя, пресвятая богородица! Связаться с полицией! Все, что имел, потеряешь! Последнее отберут, до нитки разденут! Ну и выдалась ночка!
— Ньо Хуан, ньо Хуан, да послушайте же! Я и заходить-то не стану, вы мне все через глазок подадите, откройте только его. Я к вам не с пустыми руками пришел.
— А, это другой разговор. Давай деньги.
— «Давай, давай»! Принесите мне вперед бутылку сухого вина. Ясно? Сухого, чтоб ни капли воды! И еще горькой стаканчик.
— Давай сюда деньги!
— Сколько?
— Полтора песо.
— Вот вам золотой.
— Бери бутылку. Теперь стакан. А тут сдача. И скажи спасибо, что я человек сердобольный.
Схватив бутылку в одну руку, стакан — в другую (и то и другое хозяин протянул ему, отодвинув решетку маленького дверного оконца), Маланга поспешил на помощь раненому, даже не пересчитав полученной сдачи. Промыв рану, то есть смочив ее поверх рубашки вином и затем перевязав ее с помощью двух платков так старательно, как только он мог это сделать, Маланга дал Дионисио выпить водки, помог ему подняться и, поддерживая под руку, привел в огромный дом неподалеку от ближайших городских ворот, что около театра Хесус-Мария. Здесь, в глубине двора, Маланга жил в крохотной дощатой пристроечке, прилепившейся к стене дома. К счастью, в продолжение всей этой трагикомической сцены на улице не было ни души, лишь изредка опасливо прошмыгивала сторонкой какая-нибудь кошка либо пробегала мимо собака и, тявкнув на наших земляков раза два, но не отваживаясь на большее, исчезала в темноте.
Однако что за причина вдруг заставила нашего красавчика, человека отпетого и к тому же без царя в голове, выказать в столь критических обстоятельствах поистине поразительную отзывчивость к чужой беде? Причина была та, что, нащупав у Дионисио в жилетном кармане золотые монеты, Маланга счел их своим законным наследством и достоянием как в случае смерти, так и в случае выздоровления Дионисио, ибо будь то обманом или силой, но он решил завладеть этими деньгами еще при жизни хозяина. Именно эта основная цель руководила поступками Маланги, когда он, услужая человеку совершенно ему незнакомому, простер свою любезность до того, что уступил Дионисио собственную кровать: складную деревянную койку, грязную и шаткую, где не было ни постельного белья, ни даже одеяла, которым можно было бы укрыть на этом ложе свое бренное тело. На другой день рано утром Маланга отправился к хирургу Capce, известному сочинителю романов, жившему на углу улицы Малоха и улицы Кампанарио вьехо, разбудил его и чуть ли не насильно привел к раненому, предварительно потребовав от медика сохранения строжайшей тайны. И так как между людьми порядочными и благородными подобное внимание и заботливость ничем иным, кроме денег, не оплачиваются, то Дионисио, сообразивший все это очень быстро, поспешил, столько же из благодарности, сколько из осторожности, вознаградить своего нового друга за услуги и отдал ему большую часть того, что имел, предпочтя сделать это по доброй воле, а не под угрозой применения силы.
Рана Дионисио вскоре начала мало-помалу заживать, и Маланга целыми днями развлекал выздоравливающего приятеля весьма живописными рассказами о бесчисленных похождениях, горестях и радостях своей беспутной жизни. Он, не таясь, поведал Дионисио о своих мальчишеских подвигах, о том, как позднее, когда подрос, сделался вором и грабителем, как пускал в ход наваху в стычках с превосходящим по силе противником и как сам получал ножевые раны, о том, наконец, как ловко умел ускользать от преследования полиции. С особенной гордостью и даже с каким-то жестоким самодовольством перечислял он по отметинам, татуированным у него на левом предплечье, всех «крабов» (так именовал он трактирщиков и содержателей кабачков, в большинство своем каталонцев), которых он на своем коротком веку успел пришить, то есть убить самым хладнокровным образом.
Обращаясь во время рассказа к своему собеседнику, Маланга часто называл его по имени, а иногда и по фамилии, пока однажды Дионисио не попросил его избегать и того и другого обращения, объяснив, какая причина заставляет его настаивать на подобной предосторожности.
— Называйте меня земляком, — говорил Дионисио, — как вы обратились ко мне в ту ночь, когда нашли меня полуживого посреди улицы. Ведь я, друг мой, к несчастью своему — раб и отлучился из дому своих хозяев без разрешения. Они уехали к себе в поместье, а я, воспользовавшись их отсутствием, забрался тайком в платяной шкаф к госпоже и взял там вот это платье, которое вы приняли за одежду факельщика. Там же взял я и те несколько монет, без которых нам с вами сейчас туго пришлось бы. Но дня через два у нас не останется ничего, даже гроша медного на свечку, что ставят за упокой грешных душ чистилища. Ваши доходы невелики, да и достаются они вам с опасностью для жизни. Стало быть, довольно мне тут сидеть сложа руки, пора и на заработки отправляться.
— Ничего, землячок, уж мы найдем, как горю пособить, — доверительно молвил Маланга. — Есть у меня тут одна штучка, за нее уйму денег огрести можно.
— Ну что ж, покажите, что это за штучка такая, — отвечал Дионисио, повеселев.
Бандит вынул из ножен острый стилет, который всегда носил за поясом под рубашкой, разрыл им в темном углу под койкой земляной пол своей комнаты и извлек оттуда какой-то маленький тяжелый предмет, завернутый в тряпку. Держа сверток в поднятой руке, Маланга стал объяснять:
— Вещичка эта, сеньор, досталась мне в прошлом году. Как-то раз остановили мы рано утречком — я и мулатик один, Пикапикой прозывается, да еще один чернявенький, Кайукой его зовут, — остановили мы это, стало быть, возле площади святой Терезы — небольшая такая площадь, знаете? — одного беленького. Расфуфырен, фу-ты ну-ты. Ну, помахал я, значит, у него перед носом этой железкой, он так и обмяк у меня в руках, чуть не помер от страху и всю одежонку, какая на нем была, с себя поскидывал. Приятели мои на монеты польстились, а я себе вот эту штучку взял. После как-то снес я ее одному часовщику с Кальсады — авось, думаю, он у меня ее купит. А он посмотрел ее, посмотрел, повертел-повертел, да и говорит мне: «Вещичка-то эта краденая, я за нее и ломаного гроша не дам». Вот те и раз, землячок. Ну, я малость оробел, воротился домой, да и закопал ее тут. Однако же, я думаю, может, вам оно и пофартит, глядишь, вы ее и сбудете.
— Дайте-ка сюда, посмотрим, что это за сокровище, — не без важности произнес Дионисио.
Но едва только он взял в руки таинственный предмет, как изумленно воскликнул:
— Дружище Поланко, я знаю, чьи это часы!
— Знаете? — переспросил Поланко. — Ну и дела!
Часы были золотые; сквозь колечко головки продета была вместо цепочки или шнурка муаровая лента, отливавшая синим и красным цветом; концы ее соединялись золотой пряжкой.
— Я знаю, чьи это часы, — повторил Дионисио. — Госпожа, то есть моя хозяйка, подарила их сеньорито Леонардо в октябре прошлого года. Тут должна быть гравировка. И, открыв золотую крышку, бывший повар прочел: «Л. Г. С., октября 24-го дня 1830 года. Леонардо Гамбоа-и-Сандоваль. В залог того, что он проведет рождественские праздники вместе со всей семьей в своем имении».
— Ишь ты! А что же это за птицы такие?
— Хозяева мои, — отвечал Дионисио. — Госпожа очень балует своего сына, и что ни день, то ему от нее новый подарок.
— Ну, раз оно так, вы уж меня, сеньор, простите, — огорченно стал оправдываться красавчик. — Откуда ж мне было знать, что они ваши хозяева?
— Тут и прощать нечего, дружище Маланга. Когда дело идет о хлебе насущном, людям не до церемонии, а то недолго ведь и ноги с голоду протянуть. Я уверен, что сейчас хозяева мои уже благополучно вернулись в Гавану и, разумеется, первым делом поместили обо мне объявление в «Диарио». Оно так и стоит у меня перед глазами. В нем, конечно, указано, что человек, поймавший меня, будет щедро вознагражден. И я знаю, немало найдется охотников выследить меня и предать за тридцать сребреников. Но только я вот что сказку: тот, кто вздумает меня изловить, пусть вперед за упокой своей души панихиду отслужит… Живой я в руки не дамся, скорей позволю изрубить себя на куски. Моей поимкой, вероятно, занялся Тонда — ведь он знает меня в лицо… Шалишь, за мой счет ему не поживиться! Впрочем, зря рисковать я тоже не собираюсь, потому что верно говорит пословица: «береженого бог бережет». Но раз уж я убежал от хозяев, я к ним не вернусь, я хочу жить свободным человеком. Не для того я родился на свет, сеньор Маланга, чтобы весь свой век прожить в рабстве. Нет, не для того. Я вырос среди великолепия и богатства. В доме своих первых господ я и представления не имел о том, насколько ужасна участь раба. Мои первые хозяева были истинно благородные люди, настоящие сеньоры. Я ведь женат, у меня двое детой. Собственно, не совсем так. Жену мою уже много лет как сослали в далекое, глухое инхенио и не выпускают оттуда. Там она прижила с одним белым ребенка-мулата. Но я все равно люблю ее, а в дочке своей души не чаю, и я должен заработать много денег, чтобы выкупить их и себя. Теперь вы видите, дружище Маланга, что мне невозможно называться ни Дионисио, ни Харуко, потому что под этим именем и фамилией знают меня в городе. Ведь я только до тех пор могу жить спокойно, пока не попадусь на глаза Тонде или пока имя мое не достигнет его ушей.