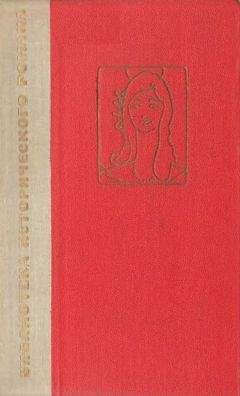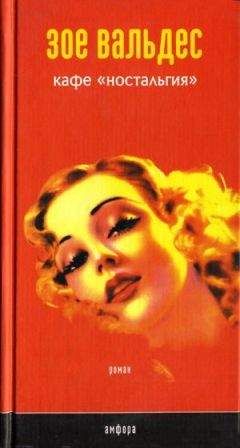— А у меня хоть и два прозванья и зовут меня кто — Поланко, кто — Маланга, но только для меня оно без пользы, — проговорил с какой-то унылой покорностью красавчик. — Как ни кинь, все клин. И фамилие мое всем известное, и прозвище тоже. Тут меня каждая собака знает. И про меня тоже в газете пропечатано было, вот ведь какое дело. И Тонда этот тоже чуть было меня не сцапал, чудом только от него и ушел. Захожу это я как-то раз в прошлом году вечерком с двумя дружками к одному крабу в таверну, на углу Манрике и Эстрелья. Заказали горькой по стаканчику, выпили честно-благородно, ну, встали и пошли. А он-то, краб этот, за нами выскакивает и хвать меня за рубашку. Деньги, видишь, за выпивку ему надобны. Ну, я и не стерпи, душа загорелась: схватился я за железку, да и чикнул его по этому месту, — красавчик дотронулся указательным пальцем до горла, — один только раз и чикнул. Ну, местечко-то что надо, кровь так фонтаном и ударила, скажи — быка зарезали. И вот, верьте не верьте, сеньор, а кинулся он за нами бежать, до самого угла добежал, но тут — все: стал за стенку хвататься и на землю повалился, а на стенке от пальцев его следы кровью припечатаны. Тонда, само собой, пронюхал, что наша это работа, рыскал-рыскал по городу и застукал-таки нас в одном местечке, около Ситьоса. Мне пофартило, и я от него ушел, а вот дружки мои влипли и до сих пор вшей в каталажке кормят. С того дня стал я тише воды, ниже травы — с этим Тондой шутки плохи. Приметили вы, что я только по ночам и выхожу, когда стемнеет, да и к мастеру при самой крайности наведываюсь?
— К какому мастеру?
— К сеньору Сосе, мастерская у него.
— Какая мастерская?
— Сапожная.
— А обувь шьют на мужчин?
— Да нет, всякую. Я там подрабатываю, когда ничего другого не подвернется. Дамские туфли шью, башмаки.
— Да ведь и я такую работу работать умею, — заговорил Дионисио, и лицо его оживилось. — Меня этому ремеслу кучер наш обучил, Пио. И у меня неплохо выходило. А что, если бы вы были так любезны и поговорили обо мне с вашим мастером? Может быть, он возьмет меня к себе в мастерскую? Тогда мы с вами спасены. Даже Тонде не придет в голову, что я могу скрываться в какой-то сапожной мастерской.
— Неплохо вы это придумали. Если хотите, так я вас, сеньор, отведу к нему как-нибудь вечерком, а еще лучше — утречком. Тонда ведь верхом выезжает, и рано ему никак не собраться.
Действительно, как только Дионисио выздоровел и почувствовал в себе достаточно сил, чтобы взяться за работу, Маланга отвел его к мастеру Габриелю Сосе, которому представил своего друга с самой отличной рекомендацией, заверив патрона в том, что Дионисио не только искусно тачает дамскую обувь, но что он к тому же человек благородный и во всех отношениях честный и порядочный и что лишь несчастливые обстоятельства вынуждают его вновь заняться сапожным ремеслом, дабы не умереть с голоду. Так повторилась на новый лад старинная история о том, как беглый раб, скрывавшийся в африканской пустыне, исцелил и выходил раненого льва и как потом, много лет спустя, когда судьба свела их обоих на арене римского цирка, благодарное животное защитило своего спасителя от других зверей и избавило его от ужасной смерти.
Непритворно тот скорбит,
Кто в уединенье плачет.
Марциал
Пимьента и его сестра Немесия вместе с портным Урибе и его женой, сеньей Кларой, проводили Сесилию до самых дверей ее дома в переулке Агуакате.
В ответ на условный стук Сесилии дверной засов отодвинулся, и дверь отворилась как бы сама собой. Но на самом деле ее открыла сенья Хосефа, которая к ночи совсем расхворалась и, не дождавшись возвращения внучки, легла в постель, предварительно прикрепив к засову длинную бечевку и обвязав ее другим концом вокруг одной из колонок в изголовье кровати, так, чтобы до этого своеобразного привода можно было дотянуться рукой. Бабушка и внучка не произнесли ни слова.
Сесилия стала раздеваться, и пока она в полутьме, при слабом мерцании лампады, теплившейся в нише перед образом богоматери, почти на ощупь снимала с себя одежду, из груди ее вырывался один тяжкий вздох за другим. Горький осадок остался у нее на душе от нынешнего праздника. Она отправилась в дом Сото, чтобы рассеяться, чтобы в шумном вихре бала, среди веселой, пестрой толпы, под гром оркестра и льстивые речи кавалеров заглушить воспоминание об уехавшем возлюбленном, который пренебрег ею, а возможно, и совсем о ней позабыл; она хотела поквитаться с ним за его неблагодарность, хотела увериться, что у нее станет силы позабыть его, если надо будет с ним расстаться надолго, может быть навсегда.
Но все вышло не так, как ей того хотелось. И теперь, перебирая в памяти события вечера, она нашла, что бал слишком затянулся, что музыка была нестерпимо громкой и резала уши, что женщины были уродливы и безвкусно одеты, а мужчины — несносно глупы и надоедливы и все празднество — настолько пошло и вульгарно, что было бы удивительно, если бы оно доставило ей какую-нибудь радость или удовольствие. Она сравнила нынешний бал с вечером 24 сентября в доме Мерседес Айяла, где она, гордая королева праздника, во всем блеске красоты, упоенная успехом и любовью, танцевала со своим возлюбленным, ныне покинувшим ее. При этом воспоминании Сесилия едва не разрыдалась от подступившей к сердцу обиды. Она стала думать о своей злополучной судьбе и скоро пришла к заключению, что лекарство, которым она пыталась излечить себя, было хуже самой болезни и что в любви месть неизбежно обращается во зло одному из любящих, отнимая у него все земные радости и даже самую жизнь.
Сесилия чувствовала себя такой несчастной и страдание ее было таким всепоглощающим, что лишь в последнюю минуту, уже собираясь лечь в постель, она заметила, что с бабушкой творится что-то неладное. Чепилья металась на своем ложе и глухо стонала, словно умирающая, для которой настали муки смертного часа. Девушка дотронулась до ее лба, но, едва приложив руку к нему, воскликнула:
— Боже мой, ведь у вас жар, мамочка!
— Ты пришла? — слабым голосом спросила ее Хосефа. — Если бы ты задержалась еще немного, ты не застала бы меня в живых.
— Мамочка, но ведь когда я уходила, вы хорошо себя чувствовали. Верно, напроказили тут без меня, правда?
— Нет, я здесь ничего не делала. Только к вечерне сходила, помолиться владычице. Мне нынче с самого утра плохо. Сердце мне говорит, что это конец мой… Который час?
— В монастыре только что пробило два.
— Как ты думаешь, пришел уже отец Апарисио?
— Думаю, что нет, мамочка. Ведь он приходит в монастырь не раньше четырех, к первой заутрене. А зачем вам теперь отец Апарисио, в такой поздний час?
— Чтобы исповедаться, дитя мое. Я чувствую, что жизнь покидает меня, и я не хочу умереть точно собака какая-нибудь.
— А разве утром вы, мамочка, не исповедовались и не причащались?
— Исповедовалась я и причащалась. Что же с того, девочка моя?
— Так ведь этого, мамочка, довольно.
— Нет, не довольно. Грешные мы все. Каждый день, каждую минуту грешим, и надо приготовить себя к последнему часу, чтобы душа предстала перед господом чистой. Чистой как слезиночка.
— Но ведь еще вчера вечером вы были здоровы. Знай я, что так получится, разве пошла бы я на этот дурацкий бал! Ни за что на свете. Одного не пойму — с чего это вам так худо сделалось, что вы все о смерти говорите?
— Долго ли здоровому заболеть? Живет, живет человек, да и помрет невзначай.
— Мамочка, а вы можете мне объяснить, что вы сейчас чувствуете?
— Объяснить этого, детка, невозможно. Одно тебе скажу: душа из тела вон рвется… И чем скорей ты сходишь за падре…
— Падре вас от жара не вылечит, а у вас, мамочка, лихорадка, вот и все. Вы стали такая мнительная. И самое лучшее будет позвать доктора. Да, так я и сделаю. Как только начнет светать, тотчас за ним и отправлюсь. А пока я вам ванну для ног приготовлю и горчичники поставлю, чтобы головная боль прошла. Вам и полегчает, вот увидите, мамочка, полегчает, а может, и совсем выздоровеете. Не такая страшная у вас болезнь, чтобы мы ее не вылечили. Вылечим вас; вы еще, гляди, и меня похороните. Вам, мамочка, жить и жить.
— Да услышит тебя наш святой заступник ангел Рафаил и пречистая матерь божия! Не ради себя жизни прошу — ради тебя. Я уже свое отжила, а ты только начинаешь жить… Делай, как тебе покажется лучше, все в божьей власти… Голова у меня от боли разламывается, — добавила она, сжимая руками виски…
Сесилия вышла в патио и, взяв немного угля, быстро развела огонь на очаге под навесом, воспользовавшись, как обычно в таких случаях, соломой. Через несколько минут вода согрелась, и, налив ее в большой таз, Сесилия приготовила ванну и поспешила к бабушке. Она приступила к этой целебной процедуре с не меньшею верой, любовью и благоговением, чем та женщина, что некогда в доме Симона омыла ноги Иисусу Христу. Вытирая после ванны ноги Чепилье, Сесилия то принималась осторожно похлопывать по ним ладонями, то горячо целовала их, то прижималась к ним щекою, словно хотела передать им частицу тепла, так жарко струившегося в ее собственных жилах.