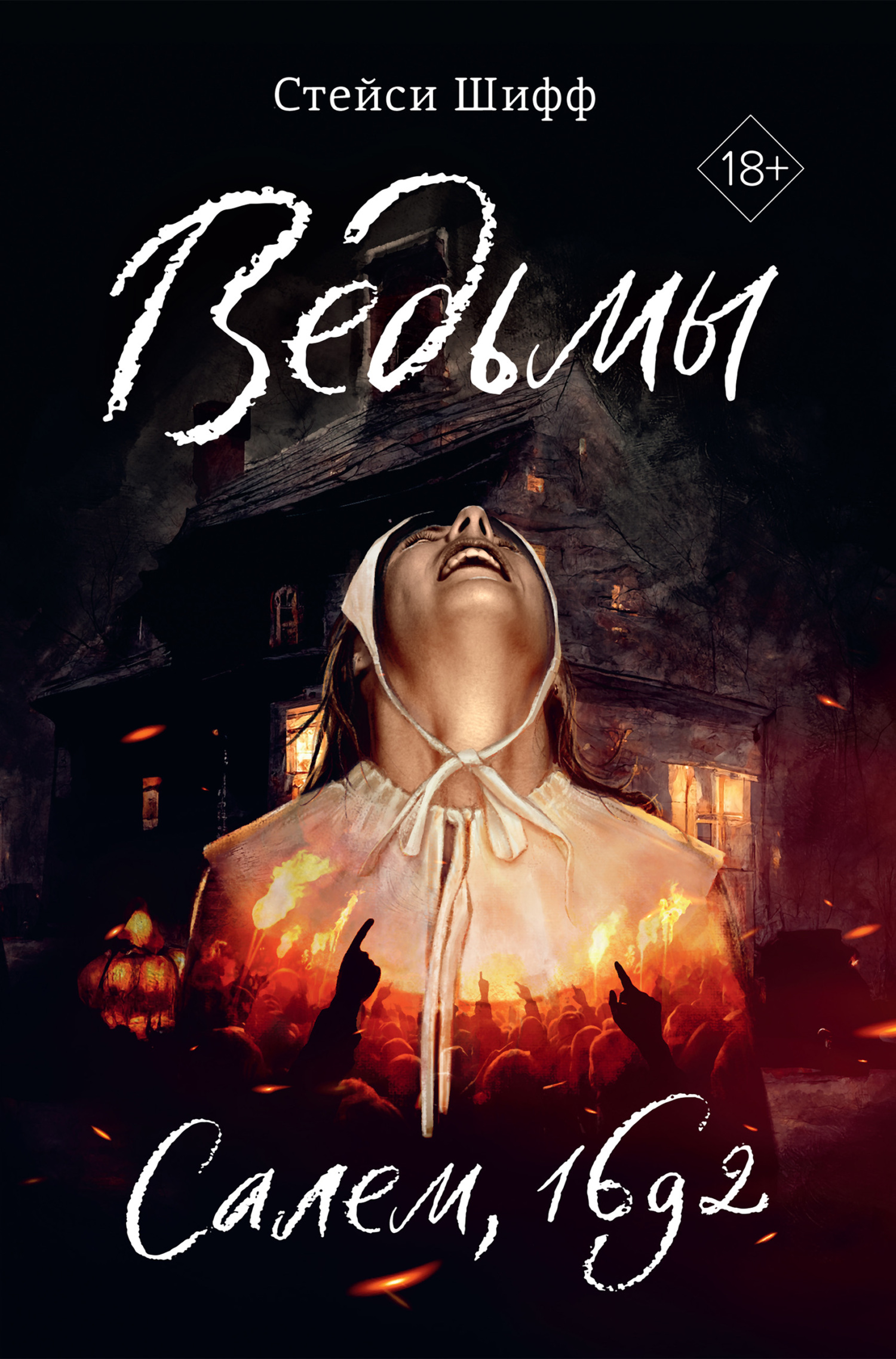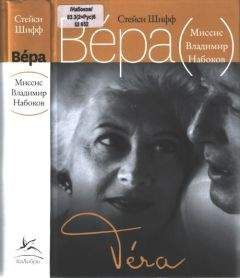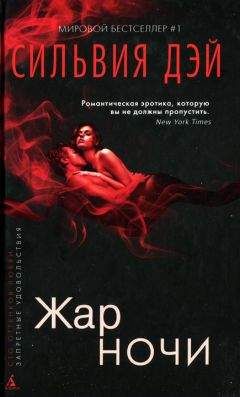его авторства. Он писал, чтобы доказать: катастрофа вполне реальна – лучше всего он умел предвидеть худшее – и не менее важно, что буря была предсказана. Больше сорока лет назад одна приговоренная ведьма напророчила «страшный заговор колдунов против нашей страны, и тогда был заложен фундамент колдовства, и не раскрой мы его вовремя, все наши церкви, скорее всего, уже были бы разрушены» [141] [40]. И это происходит сейчас, в точности как предсказывалось! Единственный способ проверить правильность предсказания, как знала Доркас Хоар, – посмотреть, сбудется ли оно. Она в свое время предупреждала, что многие дети умрут. Только семьи, пережившие потери, помнили ее слова. В 1676 году Инкриз Мэзер быстро сориентировался и прибег к истории войны короля Филипа для доказательства своих пророчеств – весьма динамичное и эффективное использование страха. Опасно, когда одни и те же люди занимаются и предсказаниями, и историей.
Мэзер утверждал, что не удивится, если колдовство распространится еще дальше, чем подозревалось – вряд ли он походил на человека, желавшего потушить пожар. В своем сочинении он придал лоска экспертам, собственной проповеди от 4 августа и знаменитому делу тридцатилетней давности в Англии, схожему с салемским, за исключением, возможно, воспламенившейся жабы. Он не просто так выбрал этот случай: обвинение там строилось на призрачном свидетельстве. Только во второй части своей книги Мэзер с энтузиазмом принимается за дело, которое, как он уверяет, описал потому, что ему это поручили, – такое же лукавство, как удивленное вступительное мурлыканье Стаутона. Мэзер либо получил меньше документов, чем рассчитывал, либо нашел в них меньше того, что подходило под его повествовательные нужды. Порой кажется, что он разукрашивает судебные отчеты узорами, которых нет в сохранившихся бумагах: запах серы; льющиеся рекой деньги; уголок материи, оторванный от невидимого привидения; булавки, которые судьи лично вытаскивали из тел девочек. В остальном он придерживался имевшихся у него показаний, при этом определенно над ними поколдовав. В «Чудесах» нет ни помилования Нёрс, ни петиции Эсти, ни выступления свидетеля в защиту Элизабет Хау. Зато автор вставил туда все истории о призраках, нужные для ублажения публики, постоянно напоминая, что полеты и договоры играли при вынесении приговора исключительно второстепенную роль.
Он выражал пылкую надежду, что некоторые из обвиненных окажутся невиновны. Они заслуживают «самой сострадательной нашей жалости, если не будет убедительно доказано, что они ее недостойны» [41]. Это было лукавством. Через шестнадцать страниц он пишет о Джордже Берроузе: «Как бы я был счастлив не знать имени этого человека». Самые его инициалы вызывали у Мэзера отвращение (только Берроуз оставался настолько могущественным магом, что его имя нельзя было произносить). Он играл крайне важную роль в этой истории, был ее ключевым элементом и идейным вдохновителем. Дальше автор признает: правительство в особом порядке просило его включить данный случай в книгу – возможно, так и было на самом деле. Разворот на 180 °, продемонстрированный в описании дела Берроуза, – ничто в сравнении со всей остальной книгой. Раньше Мэзер осуждал испытание касанием и дурной глаз, а также отвергал призрачные свидетельства и призывал к крайней осторожности в суждениях. В «Чудесах» же он предполагает, что прикосновение руки, визуальные эффекты, полеты на палках и тающие на глазах договоры – часть богохульной имитации Христа дьяволом! Как же изощренно насмехается зверь над церковными таинствами!
Выполнив свои обязательства, Мэзер вставляет в свое сочинение еще несколько «неповторимых диковин» [42]. Тут как тут краткое описание шведских событий, предтеча событий новоанглийских. Рыжая борода и длинные носки с подвязками, принадлежащие дьяволу, не поехали через океан. Остались дома и сатанинские гульбища с плясками. Самые примечательные абзацы Мэзер типографически выделил. Жирным шрифтом набрано все, что вызывает прямые ассоциации с Салемом. Так что слова «страждущие дети», «порезанный палец», «заколдованные инструменты», «свободные признания», «пыталась, но не смогла убить судей» сразу же бросаются в глаза. Еще он включил сюда недавнюю шведскую историю про маленькую девочку, которая призналась в колдовстве, любимицу семьи Мэзер, и письмо Томаса Патнэма об обвинении Джайлса Кори в убийстве [142]. Мэзер утверждал, что работал над этой книгой как ни над одной другой. Если так, то обещанного Стаутону шедевра не вышло: текст сумбурный, неудобочитаемый, местами отчаянно бессвязный и, конечно, с ошибками. Но как добиться большего, когда Сатана не дремлет, играет с ними и вбрасывает в процесс фальшивки? Дьявол сгорает от зависти к мудрости новоанглийских магистратов. Дьявол лопается от злости из-за их нового замечательного правительства. Призрачное свидетельство, может, и недостаточная улика для обвинения, но пренебрегать им тоже нельзя.
Как бы быстро ни работал Коттон Мэзер, «Чудеса» явились примером выражения слишком многого слишком поздно. Задуманные во имя обоснования позиции, опубликованные во имя предотвращения лжи, эти страницы читались как бескомпромиссное оправдание действий суда. С середины сентября до середины октября, пока Фипс взвешивал, стоит ли распускать суд или распространить слухи об этом, ситуация значительно изменилась. Была еще одна проблема. В то время как Мэзеру-отцу не нравились процессы, сын, похоже, хотел их ускорить. Коттона Мэзера беспокоила не расправа над невинными, а риск, что виновные смогут избежать наказания. Он сразу оказался под огнем критики – не только потому, что лебезил перед судом, но и потому, что проявил тот юношеский тип непочтения, к которому Новая Англия была особенно чувствительна: неуважение сына к отцу. Мало того что он не поддержал отцовскую книгу, так еще и подрывал его авторитет. Среди массово циркулирующих в тот год по провинции обвинений ни разу не было случая, чтобы отец указал на сына или сын на отца. «С тех пор меня третируют с такой греховной и злобной грубостью, какую я предпочел бы навсегда забыть», – жаловался Мэзер вскоре после публикации «Чудес» [44]. На него обрушился водопад «злобы, насилия и осуждения». В лицо ему говорили приятные вещи, но за спиной страшно злословили. А ведь он всего лишь хотел снизить разногласия в критический момент! Как можно говорить, что он противится отцу и остальным священникам Новой Англии, когда его критики сами в упоении сажают друг друга на кол? Бедняге, на его взгляд, ничего не остается, кроме как умереть (ему было двадцать девять).
Он объяснял, что они с отцом координировали усилия, чтобы обеспечить полный охват темы и аудитории. Коттон Мэзер просто переживал, что «Вопросы и ответы», опубликованные в одиночку, повредят суду и «задушат дальнейшее свершение правосудия навсегда». Он очень боялся открытой атаки на магистратов, чья работа может сделать их уязвимыми для самых «безрассуднейших толп» (и еще раз добавил «безрассуднейших» в конце, для убедительности). Сын и отец