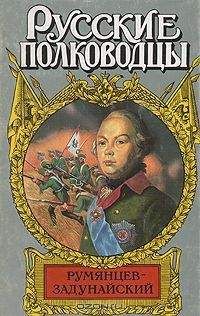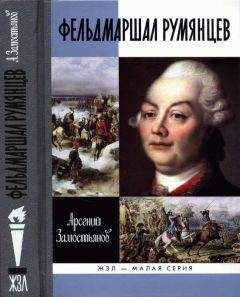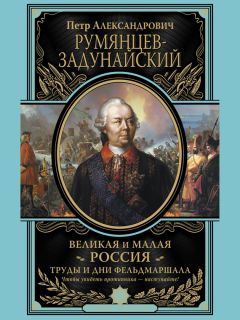Минуты две молчал Румянцев, прочитав письмо. Но вот со двора донесся неясный шум. Он поднял голову и увидел в окно людей, гарцевавших на конях.
— Кто это?
— Штаб-офицеры из главной квартиры. Прибыли за приказаниями вашего сиятельства, — отвечал адъютант, каким-то образом очутившийся рядом.
— Гм, быстро нашли, — невесело усмехнулся Румянцев. — А куды поедут от меня, если не соглашусь принять армию?
Адъютант простодушно улыбнулся: мол, быть того не может…
— Ладно, быть посему, — принял решение Румянцев. — Скажи тем офицерам, чтобы возвращались в Киев, а то тут мне все цветы затопчут. И пусть передадут генерал-квартирмейстеру следующее: первое — немедленно вызвать ко мне из Белоцеркви генерал-аншефа Суворова, второе — для похода в Польшу отобрать войска, коими начальствуют чины не выше генерал-поручиков. Все. Выполняйте.
— Слушаюсь, ваше сиятельство!
3
Суворова ждали через неделю, а он приехал ровно через три дня. Прилетел как сокол. По-суворовски, нежданно-негаданно, В полной парадной форме, в орденах и лентах. Среди армейских чинов Суворов слыл «вольнодумцем», он не придавал значения строгости формы, позволял себе появляться в епанче даже перед всемогущим Потемкиным. Только при встречах с императрицей да Румянцевым появлялся он в полной форме со всеми регалиями.
Румянцев встретил его у подъезда. Они расцеловались и с минуту стояли обнявшись — один в полной генеральской форме, другой, повыше ростом, в домашнем капоте, без парика, с побелевшими волосами.
— Молодец, ах, какой молодец! — хвалил Суворова Румянцев то ли за его блестящую форму, то ли за быстроту, с какой тот отозвался на приказ. — Отдохни малость, приди в себя от дороги и тотчас ко мне. Эй, Остап, — позвал он одного из слуг, — отведи генерала в комнату, поможешь, в чем нужда будет, а потом сопроводишь ко мне в кабинет.
Суворов имел своего денщика, оказавшегося более расторопным, чем Остап. Он помог генералу раздеться, после чего принялся счищать с его одежды дорожную пыль. В то время как он без суеты занимался своим делом, Суворов, сняв нательную рубаху, с помощью Остапа умывался холодной водой. Плескался долго, с удовольствием. Умывшись, крепко обтерся полотенцем и стал одеваться.
— Пора, фельдмаршал, должно быть, уже ждет.
Рабочий кабинет Румянцева поразил Суворова своими размерами. В разные стороны выходили шесть окон. Простенки между ними были заставлены книжными шкафами. Мебель в основном полированная, заморская. Однако тут же стояли и дубовые стулья, сделанные топорно, но надежно. Рядом с дверью на стене висели четыре шпаги: две парадные, украшенные золотом и драгоценными каменьями, и две обычные, боевые.
— Прошу садиться, — показал Румянцев Суворову на кожаное кресло.
Он уже успел переодеться, стоял посередине комнаты во всем своем фельдмаршальском великолепии. Глянув на его ордена и ленты, Суворов невольно вытянулся, и Румянцеву пришлось повторить приглашение, чтобы тот сел наконец на указанное место.
— Известно ли вам, что произошло в Польше? — начал разговор Румянцев с оттенком официальности. Он обращался к нему теперь на «вы», и Суворов не мог этого не отметить. Такой уж был у фельдмаршала характер; когда разговор заходил о службе, он забывал о своих дружеских привязанностях. В турецкую войну он даже к сыну своему, графу Михаилу, командовавшему батальоном, обращался на «вы», не отличая его от прочих офицеров.
Суворов сказал, что ему кое-что известно о нападении польских мятежников на русские войска, стоявшие в Варшаве и других городах, и что он готов принять участие в сражении с ними, с этими мятежниками. Румянцев выслушал его до конца и только тогда сообщил:
— Я получил от государыни рескрипт, коим армия вверяется мне.
— Ваше сиятельство, — порывисто поднялся Суворов, — я буду счастлив вновь сражаться под вашими знаменами!..
— Не спешите, садитесь, — прервал его Румянцев. — Дело в том, что сражаться вам придется без меня. Армию поведете вы.
— Я?!. — Суворов смотрел на него, ничего не понимая.
— Стар я стал, Александр Васильевич, — неожиданна расслабился и перешел на приятельский тон Румянцев. — Здоровье пошаливает. Ты лучше сумеешь выполнить поручение императрицы.
— Но это невозможно. У меня нет на то высочайших полномочий.
— А ежели такие полномочия дам тебе я, командующий армией, как старшему генералу?
— В армии кроме меня могут оказаться более знатные чины.
— Не беспокойся, выше тебя никого не будет, — мягко улыбнулся Румянцев. — Я все продумал. В Польшу пойдут только корпуса, коими предводительствуют чины не старше генерал-поручиков. Ты, следовательно, из генералов будешь самый старший и посему, объединив корпуса, возьмешь над ними общее командование.
Суворов, восхищаясь его предусмотрительностью, пожал плечами.
— Ежели дело обстоит таким образом… Придется повиноваться.
Румянцев дотянулся до него рукой, похлопал по коленке:
— Куда денешься, придется.
Они обсудили план действий армии, затем спустились в столовую. Разговор продолжили за обеденным столом. Однако о деле больше не говорили. Помянули Потемкина. Покойный князь обоим причинил много зла. Завистлив был, не мог переносить, чтобы кто-то опережал его в славе, желал один гореть звездой над Россией.
— А все ж, несмотря на его ущербные стороны, князь был нужен России, — сказал Румянцев. — Заслуги его велики.
— Пишут ли вам ваши друзья, бывшие сослуживцы? — переменил разговор Суворов.
— Редко. Впрочем, ежели говорить откровенно, настоящих друзей у меня мало, и в этом, наверное, виноват я сам.
Румянцев вдруг нахмурился и надолго замолчал, досадуя на себя за то, что слишком разоткровенничался. К чему такие признания? Получилось так, что вроде бы пожаловался на свою судьбу, а этого он раньше себе не позволял… Суворов понимал, что творилось у него в душе.
— Вы, Петр Александрович, представить себе не можете, как много у вас друзей, — прочувственно сказал он. — Все мы, вся российская армия, к вам как к отцу родному…
— Не будем об этом, — остановил его Румянцев.
Обед продолжался около часа. После обеда они снова поднялись в кабинет. Румянцев подвел гостя к висевшим на стене шпагам.
— Как находите коллекцию?
— Великолепно! — загорелись глаза у Суворова. — Эти две с алмазами — награда императрицы?
— За войны с турками. Эта — память о родителе. А эта, — он снял с гвоздя крайнюю шпагу с обыкновенным железным эфесом, — моя собственная. Я прошел с ней две войны. — Он ласково погладил шпагу ладонью и неожиданно протянул Суворову: — Прими, Александр Васильевич. Мне она больше не понадобится, а тебе… У тебя впереди только начатая дорога.
Нежданный подарок сильно взволновал Суворова. Он достал клинок из ножен, с торжественным видом поцеловал его, как-то сразу засуетился и стал собираться в дорогу.
Провожать знаменитого генерала вышел весь графский дом. Прощаясь, Румянцев и Суворов долго стояли у тарантаса, обмениваясь словами, случайно приходившими на ум, далекими от того, что они испытывали сейчас. Но разговор надо было как-то кончать, и Суворов раскрыл для объятия руки:
— Дозвольте, ваше сиятельство!
— Дозволяю, Александр Васильевич.
Они обнялись, и тут Суворов увидел в глазах фельдмаршала слезы. Сердце его дрогнуло. Боясь, что с ним произойдет то же самое, он торопливо поднялся на ступеньку тарантаса и приказал форейтору трогать. Отъехав саженей пятьдесят, оглянулся, помахал на прощание шляпой. В ответ Румянцев лишь шевельнул рукой. Он все еще не мог овладеть собой. Слезы текли по щекам. У него было такое чувство, словно передал человеку, махавшему ему шляпой, самое дорогое, что у него было, и что с отъездом этого человека разрушались последние надежды вернуться в строй.
Тарантас давно уже скрылся за парковыми деревьями, а он все стоял, глядел на дорогу и плакал.
Повествование подошло к концу. Остается только сообщить, чем кончились события, упомянутые в последних главах, кратко рассказать о судьбах лиц, имевших отношение к главному герою.
Выполняя поручение Румянцева, Суворов довольно быстро добился победы в Польше. Армия Костюшко была разбита, сам он, раненый, попал в плен[40]. Из Варшавы предводитель восстания был доставлен к Румянцеву, как главнокомандующему, а от него уже в Петербург. При встрече с русским фельдмаршалом Костюшко держался достойно.
— Те, кто помешал нам освободить Польшу, заслуживают презрения, — сказал он. — Но наш гнев к вам не относится так же, как не относится и к генералу Суворову. Мы понимаем: вы выполняли свой долг.
По приказу Екатерины опасный польский «якобинец» был заключен в Петропавловскую крепость. Через два года, однако, он был освобожден вступившим на престол Павлом I, после чего сразу же покинул Россию.