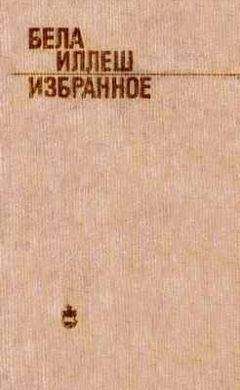Когда Красная Армия достигла границ Галиции, снабжение оружием и амуницией стоявших в Галиции поляков почти совершенно прекратилось. Раньше поезда прибывали на границу только с опозданием или теряя по дороге несколько вагонов, теперь же они совсем не прибывали. Из-за различных несчастных случаев пути бывали настолько загромождены, что движение прекращалось на целые дни. Составы, стоявшие на открытых путях, подвергались налетам неизвестных «злоумышленников». Нашу работу очень облегчало то, что в эти жаркие дни канцелярия Пари вместо укрепления железнодорожного конвоя сократила его. Каждый большой состав, везший амуницию, сопровождали всего два-три солдата.
Один из польских генералов, Сикорский, обратился с жалобой прямо к французскому правительству, обойдя не только Ужгород, но и Прагу. Французское правительство тотчас же приняло меры. Работавших в Подкарпатском крае железнодорожников сменили в один час. Их места заняли железнодорожники, присланные из Румынии. А поезда с амуницией стали сопровождать кроме чешских солдат, еще и французские цветные войска.
Пока мы были заняты поисками румынского переводчика и раздумывали над тем, с какой стороны можно подойти к цветным солдатам, вблизи Ужгорода взорвался вагон, а на другой день — виадук между станциями Волоц и Верецке. Кто это организовал, не знаю до сих пор. Эпидемия чумы вряд ли распространяется так быстро, как эта эпидемия взрывов. То взрывался вагон, то мост — и это происходило совершенно непрерывно. Железнодорожное движение приостановилось. Чешские саперы на скорую руку строили на месте взорванных мостов новые, деревянные. Мосты эти рушились. Железнодорожная линия, ведущая в Галицию через восточный Прикарпатский край, в один и тот же день была повреждена в шести разных местах.
В результате взрывов из политической жизни Подкарпатского края исчезли два человека — Жаткович и я. Когда выяснилось, что и саперы не в состоянии восстановить железнодорожное движение, с Жатковичем случился нервный припадок. Он прохворал три дня, лежал в постели, а затем поспешил уехать в санаторий в Татры. Садясь в поезд, он еще не подозревал, что никогда больше не увидит ветхих домов своей столицы и что скоро перед ним опять возникнут грандиозные небоскребы Нью-Йорка.
Я оставил Ужгород еще раньше Жатковича. Не по своей воле. После взрыва волоцкого виадука — хотя я ничего общего с этим взрывом не имел — Ходла все же арестовал меня. И для того чтобы трудящиеся Подкарпатского края не вздумали требовать моего освобождения, тотчас же переправил в Словакию, в город Кашшу, который в это время назывался уже Кошице.
Когда два жандарма проводили меня на железнодорожную станцию, я не предполагал, что не увижу больше очень многих товарищей и что скоро окажусь в Красной Москве.
Дорогу от Ужгорода до Кошице я проехал в скором поезде, в довольно удобном полукупе. Один из двух сопровождавших меня жандармов сидел в купе, рядом со мной, другой стоял в коридоре. Когда поезд отправился, я вынул из своего чемоданчика «Массовую стачку» Розы Люксембург и начал читать. Сидевший рядом со мной жандарм был старше меня на несколько лет, с соломенно-желтыми волосами, бритым лицом и в круглых очках. Время от времени он заглядывал в мою книгу. Я думал, что он собирается отнять ее у меня.
— Эта книга написана Розой Люксембург? — неожиданно спросил чешский жандарм.
— Да.
— Роза! — сказал жандарм и глубоко вздохнул.
Я с удивлением посмотрел на моего конвоира. Из скрытых под очками голубых глаз на худощавое, веснушчатое лицо жандарма скатилось несколько тяжелых слезинок.
Я подумал, что мой конвоир пьян или же внезапно сошел с ума.
— Я знал Розу, — прослезившись, сказал жандарм тихо и опять глубоко вздохнул.
На миг у меня промелькнула мысль, что рядом со мной сидит один из убийц Розы Люксембург. Но каким образом убийца мог попасть в чешскую жандармерию, а главное — почему он плачет?
Жандарм, который не был одним из убийц Розы Люксембург, все объяснил.
— Я социал-демократ, — сказал он. — Довоенный социал-демократ. В партию вступил в тысяча девятьсот двенадцатом году, когда работал в Германии, в Лейпциге. К нам, четырнадцати рабочим, которых тогда принимали в партию, обратилась с речью Роза Люксембург. Прекрасно умела говорить Роза! Вы слышали ее? Видели? Нет? Я видел ее, слышал и даже пожимал ей руку. Какой это был человек, наша Роза! А мерзавцы убили ее!
Жандарм тяжело дышал.
— Когда я вступил в партию, на Балканах была уже война. Роза тогда сказала нам: «Может быть, завтра вас, товарищи, оденут в военную форму и дадут в руки оружие. Оставайтесь пролетариями также и в одежде, данной императором, и никогда не забывайте, что винтовкой можно стрелять не только в своих братьев, но и во врагов, что стрелять допустимо и необходимо именно во врагов, в настоящих врагов». Прекрасно умела говорить наша Роза!.. Я не забыл того, чему меня учила Роза. Я был плохим, очень плохим солдатом австрийского императора. В военной форме я тоже оставался пролетарием. И когда мы прогнали императора и была провозглашена республика, я сказал партии: распоряжайтесь мною, товарищи. А мне ответили: вступай в жандармерию республики, там ты лучше всего можешь бороться против врагов республики — реакционеров и монархистов. Я послушался. Много старых рабочих социал-демократов повиновались этому приказу. А теперь мы боремся против таких врагов республики, которые читают Розу — и Ленина.
Жандарм умолк.
В течение нескольких секунд я думал объяснить ему, в чем заключается его долг. Но потом, вспомнив Седлячека и Лорко, передумал. Тогда я еще не умел видеть разницу между предателями и теми, кого предатели ввели в заблуждение, и в каждом подозревал провокатора.
Несколько часов я спал сидя. Проснувшись, увидел, что в купе я один. Винтовка жандарма стояла в углу, но его самого не было. Когда мы подъезжали к Кошице, в купе вошел другой жандарм — громадный крестьянский парень из Моравии. Он был страшно удивлен, что его товарища нет рядом со мной. И стал допытываться, куда тот девался.
— Наверное, в уборную пошел, — сказал жандарм после короткого раздумья.
Он сел рядом со мной, чтобы не оставлять без охраны, пока другой вернется. Но жандарм в очках не вернулся.
Когда мы прибыли в Кошице, станционная охрана обыскала весь поезд, но жандарма в очках нигде не нашли. Он слез с поезда по дороге — оставив своего арестанта, винтовку и другого конвоира.
Моравский жандарм повел меня в полицию, нещадно ругая по дороге.
В полиции меня поместили в общую камеру, где сидели еще пять человек. Все пятеро были словацкие крестьяне. В первую минуту они приняли меня подозрительно, считая кем-то вроде барина. Но когда я выскреб из заднего кармана брюк табак и поделился с ними, мы сразу подружились. Они увидели, что я не барин.
Наша дружба выразилась главным образом в том, что они всячески выпытывали у меня, не обокрал ли я, не убил ли кого-нибудь. И высмеивали меня, когда я сказал, что сам не знаю, за что меня сюда привезли.
— Ты еще новичок в этом деле, братец, если думаешь, что этого надо стыдиться. Времена теперь не такие, чтобы стыдиться чего бы то ни было, — поучал меня, хитро подмигивая, совсем лысый крестьянин со свисающими усами. — И если ты думаешь, что я спрашиваю тебя из любопытства, то ошибаешься. Я желаю тебе добра. Самая главная ошибка новичков заключается как раз в том, что они никогда не знают, что надо отрицать и что признавать. Запомни, братец, и раз навсегда намотай себе на ус, что отрицать все так же вредно, как и все признавать.
Поучавший меня так мудро был фальшивомонетчиком. Его четыре товарища сидели в тюрьме за поножовщину. В те времена пырнуть человека в живот считалось так же: легко, как до войны красть яблоки в поповском саду. О человеке, нож которого вошел в тело глубже, чем следовало, говорили как раньше о человеке, хватившем лишку.
На следующий день после моего прибытия меня повели на допрос. Допрашивавший меня молодой полицейский офицер не сказал, почему меня привезли в Кошице. Он говорил только, что произошло между Ужгородом и Кошице. Пытался узнать, что случилось с жандармом в очках. Я тщетно твердил, что не знаю; офицер мне не верил. Велел отвести обратно в камеру, но ночью позвал опять.
— Подумайте хорошенько, — сказал он предупредительно, — и признавайтесь, пока не поздно.
Так как я не признавался в убийстве своего конвоира, четверо жандармов избивали меня в течение добрых двух часов. Когда меня отвели обратно в камеру, я был весь в крови. Пять словаков по-братски ухаживали за мной.
— Видишь, не слушался меня, — сказал лысый фальшивомонетчик. — Не тем ты должен оправдываться, что не платил в корчме фальшивыми деньгами, — это ты как раз мог бы признать, — а тем, что эти деньги ты получил от еврея с черной бородой на ярмарке за корову с кривыми рогами. А если ты еще вдобавок ругал чернобородого еврея большевиком, то в худшем случае получил бы несколько пощечин за то, что продал свою корову большевику.