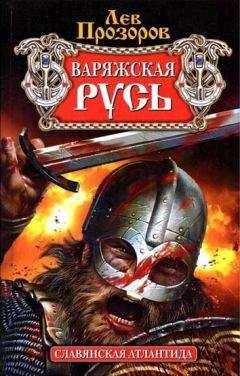Услышали. Их услышали. Самое страшное – не сбылось, Пертов угор не остался глух к голосу ведуньи-отступницы. Как знать, может, и к их нужде глух не будет?
– Поклонюсь я Попутнику водой, – стряхнула Хоронея воду с руки в костер. – Поклонюсь сосновой смолой, поклонюсь ему белоярым зерном…
Россыпью взмыли над огнем зерна с рук Хоронеи, словно взлетая с искрами к звёздам – и теряясь посреди них.
– Поклонюсь добрым курением, – ведунья приняла из рук Чурыни лапоть [105] на трёх лыковых веревках, из которого тянулась белёсая дымная струйка, трижды махнула им на север.
– Поклонюсь ему жарким пламенем, – руки Хоронеи зачерпнули языки огня, будто воду, и взметнули туда же, к полуночи.
– Поклонюсь ему брашнами сладкими… – просыпалась в огонь еда с расшитого убруса.
– Дед Оковский, Дед Волжаной, Дед Морской… – метнулся звучный шепот над сосновым ведром. – Дайте и вы силы своей…
Хоронея тем временем, что-то шепча, касалась себя маленькой куколкой из соломы. Коснулась пять раз – и кинула через левое плечо в огненное кольцо. И вновь зазвучал ее голос в полную силу:
– На челе у меня – солнце красное, под косою – млад ясен месяц, – летали птицами тонкопалые руки, касаясь названных мест. – Под правою рукою заря утренняя, под левой рукой – заря вечерняя. Завернусь я в небо синее, обтычусь частыми звездами, подпояшусь громовой стрелой…
И слова-то, отрешенно думалось воеводе, всё знакомые. Это сколько ж кусков службы кумирам стародавним промеж крещеного люда ходит, за заговоры да «крепкие слова» у нас почитается?!
И поправил себя: у них. Теперь уже не у нас, у них. Может, и не шагнул ты, воевода, в огненное кольцо, но большой круг уже перешел, да не на Пертовом угоре, а еще там, посреди мёртвого города. Среди крещеных себя более не числи.
– Встану я, – метался над пламенем голос ведуньи, звеня уже не по-людскому – словно эхом отзывалась из ночи на каждое слово чернокрылая птица с девичьим лицом, – не во светлый день, а в тёмную ночь, пойду из избы не дверями, со двора не воротами, не в чистое поле, а в тёмный лес, повернусь не на светлый полдень, а на полуночь темную, во полуночной стороне есть море-окиян, на море-окияне есть остров Буян, на том острове Буяне есть широкий двор, на широком дворе синь-камень лежит, на камне том Стар Старик сидит. В шапке золотой на один глаз, в еге богатой на одно плечо, а в руке его – посох железный. Стар Старик сидит, сам велик Велес!
Словно ночь, сгустившаяся вокруг, вздохнула.
Имя было произнесено. Имя Хозяина Пертова угора, Хозяина Синь-Медведь-камня и ведуньи Хоронеи. Хозяина чёрных и серых стай, собравшихся вокруг угора. Пастыря Зверей. Отца Могил. Деда Певцов.
Велеса. Или Велса, как выговаривала голядь.
А Хоронея начала вдруг вертеться на одном месте, запрокинув к черному небу лицо и ладони, выпевая голосом, в котором трудно было признать человеческий:
– Веле-Веле-Веле-Веле-Веле-Веле-Веле-Веле!…
Словно ночь кругом задрожала струной, пошла рябью от повторения имени…
Сколько раз оно прозвучало, сколько раз обернулась волчком противусолонь ведунья из лесной веси, воевода не заметил. Заметил, когда остановилась она, вскинула на полночь руки и выкрикнула:
– Хозяин мой, Велес великий, встань передо мною не елью становою, не зверем косматым, не вороном крылатым – покажись, каков Ты Сам есть!
И замолкла. Пертов угор окутала тишина, только трещало пламя.
Идол, ему же кланястася сии, бысть Волос, сиречь скотий бог. И сей Велес, в нем бес живя, яко и страх многи твори. [106]
Из глубины леса, с полуночи, от Тырнова, раздался глухой гул. Воеводе подумалось, что какое-то дерево не выдержало-таки веса опустившихся на него чёрных птиц.
Только… нет, не дерево это было. Скорее уж можно было подумать, что осела обветшавшая башня городской стены. Недовольно вздрогнула земля под ногами.
Гул повторился – ближе. И только на третий раз воевода уразумел, что это было.
Не падали деревья. Не рушились отродясь не стоявшие в лесной чащобе башни.
Шаги.
Кто-то брел из чащи к Пертову угору. Кто-то неспешно и неотвратимо переставлял тяжкие, как древние деревья, как башни городские, ноги. Шагал, сотрясая землю.
– Госссподи… – почти беззвучно просипел кто-то рядом – воевода не признал голоса.
Четвертый удар донесся из леса….
Кроме Медведь-камня, на Пертовом угоре стоял идол [107] . Древний кумир, ровесник капища. Многие видели его – и те, что несли к каменным ногам дары, и те, что, отплевываясь и крестясь, поворачивали прочь, едва завидев огромную каменную голову в ожерелье насаженных на частокол черепов. Но когда дружина Владимира Глебовича ворвалась в идольское логово, кумира там не нашли. Последний Перт только скалил на расспросы жёлтые зубы: «По воде уплыл!» Молодой князь даже не осерчал тогда на нелепый и бессильный глум старого бесомольца. Решил: видать, и не было идола на угоре, пустое болтали.
Многие в городе с тем согласились, и только крепили их убеждение слухи, начавшие бродить по краю. Будто то там, то здесь видели у лесных весок истукана каменного – где в морозный лютень, где на исходе жатвы [108] . Иной раз государевы или владычные люди подхватывались на эти слухи, но попусту. А лесовики, русоволосые узколицые вятичи и белобрысая круглолицая голядь [109] , отмалчивались или отвечали нелепицей: «Ушел Он».
Ходили и иные слухи – о часовнях, а то и церквах, сокрушенных в ночи каменной десницей. И другие, вовсе уж несуразные – когда б не слышал их воевода всё от того же Апоницы, отцова друга. Будто, заночевав на охоте, пробудился с ловчими и гостями своими ночью разом. Сперва от щенячьего скулежа матерых охотничьих псов. Потом от визга рвавшихся с привязи коней. Пробудившись, услышали – сперва страшную поступь, надвигавшуюся из леса, а после и безмолвный приказ: «Прочь с дороги!» [110] И будто едва успели отбежать, как надвинулись вплотную каменные шаги, сминая кострища и брошенные второпях шатры. И заслонила звезды огромная голова. А после – стихло всё, миновалось, ушло.
Такое одни объясняли темнотою и глупостью суеверных лесовиков-поганцев, другие – наваждением вражьим. Но Апоница не был ни суеверен, ни глуп, а наваждения не топчут шатров….
Ныне воевода сам слышал, как бредет сквозь зимнюю ночь самое дикое и страшное из преданий Пертова угора. Видел, как, скрипя и стеная, оживают деревья на его пути, вытягивая корни из промерзлой земли и сугробов, отползают в стороны, вздымая черноперые облака потревоженных стай, давая дорогу – Хозяину.
Истукан был не так-то велик, как могло показаться слышавшему Его поступь в ночи. Всего лишь на полтора человечьих роста возносилась к хлопающему крыльями черному небу трехликая голова под шапкой.
Не враз воевода понял, что ночной тишины нет более. Одна стая выла меж стволов в тысячу глоток, другая с небес отвечала столь же оглушительным граем.
Вой, грай, скрип сторонящихся деревьев, и сквозь всё это – гул сотрясающих не землю – мир, бытие само – шагов.
А навстречу раздался другой звук. Для него не было слов у воеводы. Не скрежет, не хруст, не гул и не стон – и всё это вместе. Никогда не доводилось ему слышать такое. Никогда не доводилось ему видеть, как шевелится камень. Как расплетается серый ком, прорастая четырьмя толстыми кривоватыми лапами, выдвигая каменную морду, как распахивается пасть – и камень ревет. Ревет без гортани, без глотки, голосом, который не с чем сравнить, нечему уподобить.
Медведь-камень приветствовал Хозяина.
Гридни только рассыпались в разные стороны. Каменный исполин перешагнул большой круг, неторопливо прошел сквозь огонь, лизнувший тяжелые голени. Огляделся – тремя каменными лицами, на среднем из которых торчал из пасти каменный язык. Синь-Медведь-камень подкосолапил к нему, улегся у ног – и каменный Бог сел верхом на верного зверя.
Хоронею, стоящую перед Хозяином, воевода едва признал. Больше ведунья не казалась молодой старухой – столько юного счастья блестело в распахнутых глазах, что мерещилось – лет десять скинула с плеч бывшая муромская княгиня. А вот Чурыня, стоящий рядом, побелел лицом, будто берестяной личиной на Святки накрылся. Но более ничем потрясенья своего не выдал. Вместе с ведуньей подносил званому гостю сладкого медового сбитня, воды, помогал накинуть на каменную голову и покатые плечи шкуру с рогами. Турьи рога на голове исполина казались маленькими рожками – вроде тех, что наклепывали на старинные шлемы [111] , оттолкнуть, отвести от плеч всадника соскользнувший с шишака удар степной сабли. Но сидели они ровнехонько – и струя сбитня, льющаяся в ковш, не дрогнула ни на миг.
Хорошего воина потерял боярин Феодор.
Хоронея умащивала каменные бороды коровьим маслом, лила воду, сыпала зерно. Кадила из того же плетеного «лаптя» сизым дымком – запах, пробившись сквозь костер, вдруг напомнил о половецких кочевьях. Обмахивала жагрой, вовремя запаленной всё тем же Ходыней. И пела, пела всё тем же голосом лесной вилы, восхваляя и величая Хозяина.