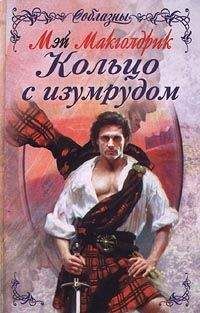Те сдвинули золотые напяточники, рявкнув: – Мы завоюем!
– Всех одолею. Я – Хун-Ахпý.
Он ушёл с содомитом.
Великий батаб и верховный жрец, обсудив факт, вняли, что тирания сама по себе – ужасна, но обращённая в дело войны – прекрасна. Может, пора пришла править Миром?
Пакчу отправили через Манту в Киту, к отцу.
ГЛАВА ПЯТАЯ
рассказывающая о многом, также о
благоденствии подданных
и проделках судьбы…
В очаге тлел помёт, крася женщину у горшков, пол с малышкой и тощим мальчиком, большеглазым и хрупким. Он следил в щель в соломенной крыше звёзды.
– Мам, остричь Длинноволосую, из волос связать ликлю и подарить жене инки – что будет?
– Не сочиняй, Чáвча! – Женщина улыбнулась. «Длинноволосой», также «Кудрявой», звали Венеру как почитаемого пажа Солнца. – Выдумал что? Отец был бы жив – сказал бы! Пал на войне в Мусу-Мýсу он… – Разжевав горсть маисовых зёрен, женщина сплюнула в чан жвачку. – Ишь ты, остричь… Достанешь-то как Кудрявую?
– Просто! – Мальчик, вскочивши, расширил щель в крыше. – Нож возьму и мешок…
– Прямь!
– Мама, пойду к заре и поймаю Кудрявую, остригу её за день. За день успею! Будет садиться, я соскочу с неё. Свяжешь ликлю, я отнесу жене инки, стану куракой. Я… – он закашлялся дымом и сел на корточки.
Сплюнув жвачку в чан вновь, мать сказала: – Как ты пойдёшь к заре? По дороге пойдёшь – изловят. Что, мол, без спросу? И поколотят. Нельзя ходить просто так. В горах пойдёшь? Ольáнтая люд поймает, а он разбойный… А перейдёшь Мать-Анды – чунчу и мýсу съедят тебя, как отца.
Она, подлив в чан воды, взболтала всё, завершая готовку áки – коричневого хмельного напитка с запахом старого кислого пива.
Дверной полог дрогнул. Вошли два мужа в ладных рубахах, в шапочках, с белошерстными вставками в мочках. Ибо в империи был закон, «чтоб индейцы обедали бы и ужинали открыто, чтоб судейские исполнители с полной свободой могли посещать дома… чтоб узнать, сколь внимательны и заботливы и мужчина, и женщина в их семейных делах, послушны, усердны, заняты ли работой дети». Гость, меньший ростом, фыркнул на девочку.
– Сопли… Что не следишь?
Мать кинулась утереть нос.
– Стираешь? Моешься?
Мать явила одежды, свои и детские, каковые – мешки с тремя дырками.
Гость проверил горшки. – Почистила… К завтра пищи сготовила?
Мать дала ему áки.
Гость почесался. – Плохо выводишь блох. Дети слушают? Пряжу сделала?
Мать дала им корзину.
– Мало! Бог наш Заступник таких, как ты, опекает. Где благодарность?
Мать задрожала.
– Вот порученье… – Гость пнул мешки, сброшенные с плеча спутником. – Налущи зёрен – чашка твоя.
Мать кланялась. – Господин ты наш добрый! Óбщина добрая! Помогает!
– Встанет Луна, на двор иди: на совет в десятке.
Как гости вышли, мать всполошилась. – Труд! А мы старый труд не докончили!
Чавча выволок разбросать у стен, обносивших квартал, куль клубней. Чвиркали воробьи, Кудрявая, то есть Венера, висла в закате над дальним пиком. Вынесли чан с дождевой водой; мыли картофель, долго и молча.
– Быть бы мне птицей. Я бы летал… хоть в Куско! Близко он. Ты там была?
– Нет… Что это я! Была, тебя в животе носила… значит, и ты был. Туда зовут каждый год – меняться чтоб рукоделием и едой, видеть Владыку. Наши мужчины тогда понесли туда просо, женщины – ликли красивые… Ликли ладные я ткала! Нынче пряжу мне поручают, только лишь. Мол, одежду вшами завшивлю или испачкаю.
– Ты про Куско скажи… куда?! – Чавча поднял сестричку и сунул в ямку у входа, чтоб там топталась.
– Куско из золота… – Мать уставилась на закат в мечтах. – Там один квартал – наших десять селений! Башни – до неба. Пальи там – в сребротканых рубахах, ликли их тонкие, как туман, в смарагдах, обувь их – золото с бирюзой, волосы заплетают нитями серебра… Там инки! Уши как Солнце, Чавча, сверкают! И ходят в золоте, носят их на носилках. Глянут на пýреха – и тот мёртвый! Силу им Солнце дал – их Отец… На меня там один смотрел из носилок. Я ведь красивая… – Мать, вздохнув, принялась тереть клубни пальцами.
Побросав их в солому, чтобы промёрзли, оба в лачуге лущили кукурузу, высматривая сквозь дырявую крышу темень, чтоб пойти на совет.
– Мы бедные? Ничего у нас нет.
– Выдумываешь! Дом есть и áка… Жадный?
– Инки ведь жадные?
– Ты… За эти слова тебя в рудники, в рабы!
– У тысяцкого раб сытый!
– Он всё равно раб… Ты, Чавча, вырастешь – землю дадут тебе, пýрех станешь, старейшиной станешь, дом свой построишь, меня с сестрой приоденешь.
– Ты ликлю хочешь? Жадная?
– Твой язык – как у глупого воробья… Не жадная. Но все любят красивое.
– Взял бы тебя кто в жёны…
– Смолкни! – Женщина, глянув в нишу в стене, где были ноготь, прядь волос, позвонок, отнятый у дикарки (у Има-сýмак), шепнула: – Дух-дух, прости…
Вспомним «об общепринятом целомудрии вдов, соблюдавших затворничество первый год их вдовства; только лишь единицы, бездетные, допускались замуж; те, что имели детей, замуж не выходили, жили же в воздержании».
– Мам, Луна!
Взяв накидку, та побежала к женщинам и подросткам, толпившимся за отцами, и стушевалась, когда из богатого дома вышел старик с клюкой и его сын-гигант Укумари, ихний десяцкий (он ходил с Вáраком и отцом Чавчи в дальний поход, в страны Чунчу и Мусу-Мýсу).
– Вискáча, старейшина! – кланяясь, возгласили общинники. – Наш отец! Мудрый, как духи!
Севши на корточки, все умолкли. Сам старик занял камень и отдышался.
– Что скажу? Пора страдная… Пашни полить надо, лам пасти надо… – он загибал пальцы. – Наша десятка пажити Солнца все полила, пашни Набольшего полила. Надо пашни курак полить… наши пашни полить… Мои полить – перво-наперво, жухнет колос… Да, жухнет.
Десяцкий взглядывал на отца и Чавчину мать, прятавшуюся зá спины.
– Я, отец, за нас всех скажу! – Плотный пýрех поднялся. – Мы, знай, польём твоё. Ты проси у старейшин, пусть нам дадут лужок за рекой. Там пасёт лам род Кой, пажить добрая! Мы бы там откормили скот в радость Заступнику Благодетелю, да и нашим начальникам-инкам. Старайся добыть там пажить! Выговори! Ты к предкам ближе, выговори пажить!
– Правду сказал! – общинники закричали, встав. – Пособи, отец!
– За десятку радею, – вёл старик, тыча клюкой под ноги. – Трудимся славно. В хранилища Ясного Дня, Заступника Благодетеля, и в хранилища óбщины много сыплем картошки, проса и шерсти. Тысяцкий наш доволен. Мы также воины, и наместник, всесильный наш Титу Йáвар, рад нам.
Все поглядели на Укумари снизу вверх.
– Храбрый! Много предателей поразил в странах Чунчу и Мусу-Мýсу! Пальца лишился!
– Я вас позвал сказать: наш теперь тот лужок. (Вздох радости). Выговорил!
Полнолуние облило двор, холмы окрест, хребты светом. Выли собаки.
– Так скажу. Всем работать. В óбщине выборы. Я старейшина полусотни. А попаду в совет сотни, многое выговорим… Постараюсь.
– Отец! – вёл плотный пýрех. – Потрудимся, обещаю! Мы, знай, всегда с тобой! Дай побольше землицы – будешь в руне ходить!
– Я уйду скоро к предкам, – встал старик. – К ним в сермяге удобней. Останется Укумари, ему б руно. Сын в старейшины вас повыведет, станем главными в пятисотке… – Он копнул клюкой землю. – Надо нам семьи пýрехами крепить поэтому… Жёны, духов просите давать мальчишек; снадобья ешьте, чтоб ими пухнуть… Нам дадут пýреха с малолетками вместо Чавчиной матери… Чавчу мы в рудники сдадим. А сестру его – хоть в затворницы. Ждать не могут Вискачи, что Чавча вырастет. Надо нам власть хватать…
– Уай! – рыдала вдова. – Тружусь! Что велено – делаю. Больше дайте, коли хотите, буду работать! Муж на войне погиб… Разлучаете? Помоги, Укумари! Ты наш десяцкий!
Чавча увёл её.
Утром мать накрывала картофель, кой вчера мыла с сыном, старой соломой.
Вдруг пришёл Укумари, теменем вровень с крышей. – Ты накрывай, всё правильно. Дни Ношения Мёртвых жарки… Ты постарайся…
– Да не учи меня.
– Не сердись, – он бурчал, опустив взор. – Я отговаривал… Но он понял…
– Уай, тебе всё равно!
– Не всё… – он шагнул к ней.
– Стой! Нас увидят, нам плохо будет…
Он опустился, чтобы ровнять солому. – С детства люблю! Отец запретил брать в жёны: сирая, мол… Жену не люблю. Тебя люблю… Зорька! Цветок мой!
Она замерла в волнении.
Предрассветный туман накрыл их.
– Я в стране Мусу-Мýсу думал: люблю её. Сберегал тебе мужа. Но его выкрали мýсу, съели.
– Уай, господин! – пела женщина. – Глаз моих господин! Губ моих господин! Никого не любила, тебя люблю!
Женский голос звал: «Укумари!» Гигант, застонав, поднялся.
– Ты потерпи, цветок! Буду думать, как не погибнуть, как нам жить вместе.