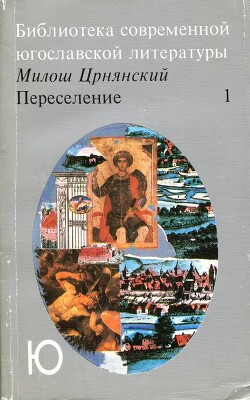Он следовал за Павлом по трактиру словно тень.
У него была маленькая красивая жена, а у нее — младшая сестра, такая же красивая, но хромая. Потеряв надежду выйти когда-нибудь замуж, она чувствовала себя среди мужчин очень неловко. Но Зиминский хотел ее просватать во что бы то ни стало.
Марко Зиминский знал, что у Исаковича умерла жена, и считал, что эта молодая красивая девушка, несмотря на свою хромоту, будет хорошей женою для Павла, которого он очень почитал, как старшего и богатого родича и юнака.
И Павел тоже охотно с ним встречался. Однако последняя их беседа закончилась вовсе не так, как того хотелось Зиминскому.
Когда Исакович простился с г-жой Зиминской, Марко вышел с ним, чтобы сказать ему несколько слов. Пробормотав что-то невнятное на деревянной веранде, он предложил Павлу спуститься в столовую.
Они уселись в углу, и Зиминский сказал, что его жена видела, как к Исаковичу приходили госпожа Евдокия Божич и ее дочь Текла. Видела своими глазами.
Он пригрозил жене, хотя никогда еще так не поступал, поколотить ее, если она кому-нибудь даже заикнется об этом. Жена поклялась молчать, но ведь известно, как мучает тайна любую женщину, пока она ее не выскажет, потому-то женщины и сходятся «поболтать». Вот он и хочет предупредить Павла, чтобы тот остерегался Божича, ведь у Божича на совести уже два убийства.
Исакович на это спокойно ответил, что госпожа Божич действительно приходила к своим родственникам, но никогда не поднималась даже на веранду. Вероятно, госпожа Зиминская ошиблась, ей просто показалось, почудилось в полумраке.
Огорошенный Зиминский, немного помолчав, пробормотал, что не только его жена, но сам он тоже видел Евдокию Божич.
Исакович в ответ на это сказал, что, значит, Зиминский тоже обознался в темноте.
Что же касается Божича, то не так страшен черт, как его малюют. И никто не знает, у кого сколько убийств на совести.
Кому придет в голову прийти к нему, Исаковичу? Какая дура явится с визитом к вдовцу?
Однако им пора расстаться, закончил Павел, чтобы потом встретиться, по-человечески, уже в Киеве. И он обнял на прощание Зиминского.
— Надеюсь, — прибавил он, — что мы встретимся в Киеве еще в этом году.
Когда Павел ушел, все завертелось в голове Зиминского. Казалось, крыша валится ему на голову. Родич, которого он так уважал, офицер, которым он так восторгался, человек богатый, достойный — и вдруг лжет!
Для Зиминского это было едва ли не самым тягостным переживанием в жизни. Он стоял, сбитый с толку, и долго смотрел на дверь, за которой исчез Исакович.
Когда Марко поднялся к себе наверх и жена тревожно спросила, предупредил ли он Павла насчет Евдокии и что тот на это ответил, Зиминский сказал, чтобы она помолчала и хотя бы на минуту оставила его в покое.
Пусть она ни о чем его не спрашивает, прибавил он. И не надо им в это дело вмешиваться.
— Я говорю ему, что мы всё видели, говорю, что Божич убийца, а Павел только смеется и смотрит как баран на новые ворота. Погибнет он из-за женщины и, что хуже всего, опозорит наш род. Сам Божич его убивать не станет, просто подыщет какого-нибудь негодяя, который сведет счеты с Павлом в темноте, и концы в воду! А ведь до сегодняшнего дня я все еще надеялся женить Павла на твоей сестре. Но я все равно найду ей мужа.
Вот каким образом Павел Исакович, который казался Зиминскому исполином, столпом, дубом, что стоит наперекор всем стихиям, утратил свой прежний ореол в глазах юного корнета.
— Никакой он не столп, не дуб, он просто старый пень, — с горечью шептал Зиминский. — Отперся от того, что к нему приходили женщины, солгал! Видно, он похож на того нищенствующего монаха, который ходил ночевать в село Рибарицу к богомолке и записал в поминальную книгу: «Село Рибарица. Дала богомолка кружок сыра и штуку полотна»…
Солнце в Вене уже зашло, когда Исакович во второй раз пришел в лазарет.
Доступ туда был теперь свободен: транспорт черногорцев уже готовился к отъезду в Россию.
Исакович шел молча в сопровождении Баевича и караульного офицера. Его походка была ленива и небрежна.
К лазарету подогнали барку. На ней уже горели фонари. С барки черногорцам выдавали одежду, белье, пищу, воду и соль. У лазарета сновали какие-то лодки, а длинная вереница крытых возов вытянулась на песчаном берегу.
Радуле Баевич встретил Исаковича приветливо.
— Нам известно, — сказал он, — что вы нас вызволили из беды и что Россия нас не забыла. Все, кто в силах, готовятся уезжать. И вдруг, перед самым нашим отъездом, Вена опять словно с ума спятила. Отобрали у нас всю одежду и выдали новую, еще более чудну́ю и пеструю. И какое-то уж совсем немыслимое белье. Едва я народ утихомирил. До самой смерти люди не забудут, что побывали в Вене.
Исакович, как бы вскользь, спросил о женщине с больной дочерью. Баевич сказал, что девочка поправилась. Ей сделали разрез на шее, и сейчас у нее горло просто царское. Она совсем здорова. У ее матери брат живет в Киеве. Потом Баевич стал жаловаться, что им не вернули оружие. И заторопился делить хлеб, привезенный в караульное помещение. Исакович спросил, может ли он повидать эту девочку, которую вылечил медик, и ее мать?
— Йоку, жену Стане Дрекова? — хмуро спросил Баевич. — А зачем она вам?
Павел стоял на понтонном мосту, глядел на красный закат, вернее на еще пламеневшие на глади Дуная его отблески, и спрашивал самого себя, чего он хочет и зачем явился сюда.
Не дождавшись ответа, Баевич насупился и ушел.
А дети, как козлята, подбегали к офицеру, которого узнали по треуголке. Как раз в ту минуту, когда Баевич направился к людям, выгружавшим из лодки какие-то бочки, Исакович увидел ту, которую искал. Черногорка вышла из лазарета и спустилась на берег, к караульному помещению. Положив на голову несколько хлебов, она повернула обратно, поднимаясь по узкому бревну. Видела ли эта женщина, как он пришел, или только теперь его заметила, Павел не знал, но в десяти шагах от моста она вдруг остановилась и пристально посмотрела на него. Потом неторопливо стала приближаться, неся на голове хлебы.
На ней было поношенное черное платье, сидевшее мешком.
Когда она, некрасиво семеня ногами, медленно подходила к нему все ближе и ближе, напоминая столп, по которому вьются черные змеи, он окликнул ее.
Женщина покраснела.
Павел спросил, где ее дочь и муж.
Решив, что Исакович, видимо, командир отряда стражи, который распределяет хлеб, и на его вопросы полагается отвечать, она подошла к нему совсем близко. На ногах у нее были шелковые голубые туфли с оторванными каблуками, поэтому она и ходила как-босая.
Черногорка спокойно, будто увидела его впервые, ответила, что она Йока, жена Стане Дрекова, что ее муж в Триесте, он опозорил и бросил ее. Надоело ему тут ждать, и он удрал. А она едет в Россию, к брату. Поедет, верно, и Дреков. А его, капитана, кто бы он ни был и куда бы ни ехал, пусть наградит бог за все то, что он для нее сделал. Только теперь она поняла, что дочка была близка к смерти и умерла бы, не приведи капитан того врача. И тогда будто солнышко красное взошло! Женщина смотрела на Павла спокойно, но радость светилась в ее больших, широко раскрытых зеленых глазах, а ресницы у нее и впрямь были совсем пепельные.
Чтобы лучше разглядеть ее, Исакович нагнулся с понтона и почти вплотную приблизил свое лицо к ее лицу. Он сказал, что тоже едет в Киев и на месте Дрекова никогда не бросил бы ее.
И тут же раскаялся, увидев, что лицо женщины покрывается смертельной бледностью и глаза ее меркнут. Она пробормотала, что капитан, видно, из тех, кто носит на голове вместо своих чужие волосы, снятые с мертвеца. Зачем он говорит неправду, будто едет с ними в Россию? Кто он такой?
Исакович сказал, что если б он даже хотел, то не смог бы ей солгать. Он и в самом деле едет в Россию, а ее, если бы только мог, нес бы на руках и берег как зеницу ока. И пришел он сюда, чтобы это ей сказать!
Женщина молча постояла возле своих хлебов, которые опустила с головы на землю, открыв при этом свои черные косы, походившие на клубок змей. Но когда Исакович, точно обезумев, повторил, что пришел ей об этом сказать, она переменилась в лице. На ее губах появилась странная улыбка, как у женщины, которая могла бы многое сказать, но не хочет. Потом она подняла хлебы и пошла к лазарету, как будто Павел ничего и не говорил. Но в ее походке, в покачивании бедер появилась какая-то легкость, которой не было прежде. Исакович смотрел ей вслед до тех пор, пока она не скрылась в темном проходе лазарета.