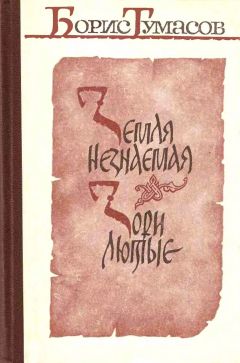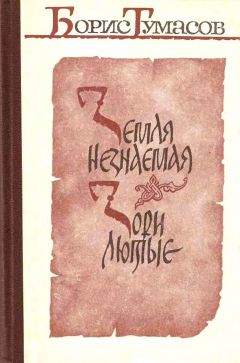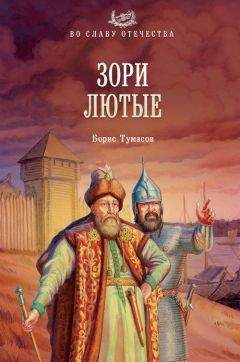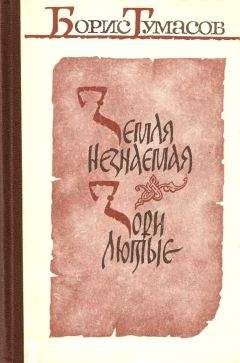Пока маршалки добирались к Москве, гетман Острожский с многочисленным войском подступили к Пскову.
Проведал об этом великий князь Василий и велел литовских послов Богуша и Щита в Москву не впускать, а задержать в Дорогомилове.
Барон Герберштейн к московским боярам кинулся, речи вёл, что-де негоже так с послами обращаться, как поступил великий князь. Дошли о том слухи до государя, озлился он.
К тому времени гетман Острожский осадил Псков, но воевода Салтыков-Морозов приступ литовского войска отбил и город удержал.
Послал литовский гетман отряды грабить псковскую землю, но на помощь псковичам уже спешили московские полки. Воевода Иван Ляцкий в коротком бою развеял отряд, двигавшийся на помощь гетману, захватил литовские пушки и пищали.
Получив известие, что к Пскову движется русское войско, гетман Острожский поспешил снять осаду и повернул в Литву.
Перешли московские полки границу, пошли вдогон литовскому войску. До самого Вильно достали и воротились к Смоленску.
* * *
Литовских послов допустили в Москву не скоро, зимой. Замело город сугробами, вьюжит. Но, к удивлению Богуша и Щита, народ по домам от холода не прячется и торг гудит вовсю.
Послам литовским из саней бы вылезти и в толпе поразмяться, да надобно поспешать в Грановитую палату. Сам великий князь ждёт.
В просторных сенях с литовских послов сняли шубы, повели хитрыми переходами. Маршалкам боязно. В Дорогомилове, покуда за караулом сидели, набрались страху.
Пока за боярином-дворецким плелись, всяко передумали. Опомнились уже в Грановитой палате. Осмотрелись.
У стен на лавках бояре расселись, важничают, а прямо перед маршалками в кресле на помосте государь.
Боярин-дворецкий громко, на всю Грановитую палату объявил:
— Послы короля Польского и великого князя Литовского к великому князю и государю всей Русской земли! Насупился Василий, спросил резко:
— С чем прислал вас брат мой, король и великий князь Сигизмунд?
Толмач перевёл слова Василия. Маршалок Богуш кунтуш одёрнул, шагнул наперёд, ответил с поклоном, что хочет король Польский и великий князь Литовский мира, какой был меж их государствами ещё при великом князе и короле Александре и государе Московском Иване Васильевиче, да и ране. А из Смоленска бы полки московские увести и впредь на Смоленск не покушаться.
Едва толмач рот закрыл, как недовольно зашумели бояре. Василий посохом о пол пристукнул, призвал к тишине. Потом откашлялся, сказал с достоинством:
— Смоленск наша отчая земля, то королю и великому князю Сигизмунду известно. Отчего же хочет он владеть ею? Смоленск не отдадим в века. Не ослабим наши границы. Да и то ключ от дороги торговой, буде вам ведомо. В Смоленске пути из Приднепровья, Польши, Литвы и земель прибалтийских сходятся.
Василий встал резко, ступил одной ногой с помоста:
— Хотите мира с нами, не отказываемся. Но о Смоленске и иных городах наших речи не ведите. О том и передайте брату моему любимому, королю Сигизмунду.
* * *
— Ждал я, отче Варлаам, этого разговора, ждал, — Василий потёр лоб. — Сам не заводил до времени. Чуял, ты первым начнёшь.
В княжеских покоях тишина. Со стен глядят на великого князя и митрополита писанные красками воины и охотники, святые и юродивые.
Старчески мутные глаза митрополита Варлаама уставились на Василия, слезятся. Государь продолжает:
— Ты, отче, попрекать меня заявился, не иначе. Вот, сказываешь, Соломонию я обижаю. Так ли? А обо мне ты, отче Варлаам, помыслил? О том, кому стол великокняжеский передам, гадал ли? А надобно!
— Во грех, во грех впал, сын мой, опомнись! Зрю яз, замутила литвинка разум твой.
Василий усмехнулся.
— Отче Варлаам, ответствуй, знавал ли ты в жизни хоть одну женщину?
Митрополит отшатнулся, дрожащей рукой перекрестился:
— Не богохульствуй, сын мой, не впадай во искушение.
— То-то, — прервал его Василий. — Ты пастырь духовный, я же из плоти и крови создан, и любовь мне, отче, не чужда. Нет у меня к Соломонии плотского влечения, чужая она мне. И не болеет она душевно, о чём я мыслю.
— Вас церковь венчала! — воскликнул Варлаам.
— Того и хочу, отче, чтобы церковь ныне развод мне дала. Своей властью ты, отче Варлаам, Соломонию в монастырь постриги. Пусть она грехи свои за бесплодие отмаливает. Да и доколь ей в великокняжеских палатах об пол лбом грохать, пускай в монастыре шишки набивает.
Митрополит затряс головой:
— Нет, нет, сыне, не дозволю яз! И не допущу литвинке осквернить душу твою!
— Дозволишь! — Василий поднялся, задышал тяжело. Снова повторил угрожающе: — Дозволишь! Коли упираться станешь, уходи с дороги, отче, скинь сан митрополичий. Не быть тому, чтобы на Руси кто-либо мнил себя выше государя. Слышишь, отче Варлаам? И ты уйди в монастырь. Другого митрополита изберёт собор церковный. Такого, коий мне не воспротивится, в единомыслии со мной будет. А что до инока Вассиана и Грека, так и их велю из Москвы в отдалённые монастыри сослать. Сегодня вышлю, немедля! Слышь, Варлаам?
Побледнел митрополит, схватился за грудь.
— Что, отче, болит? — Глаза у Василия холодные и злобные. — Отправляйся, отче, и о моих словах поразмысли. Не дашь развод, не пострижёшь Соломонию, сам на себя пеняй. В монастырь отправляйся. За Вассиана и Грека не проси. Им в любом случае на Москве нет места. Ходят, по углам шушукаются, боярские страсти подогревают. Терпел я нестяжателей, ныне довольно. Давно я приглядываюсь к сваре вашей церковной, вникаю в неё, отче Варлаам. Вы меж собой грызитесь, ладно уж, но о единстве государства печётесь. И дела ваши к тому должны быть направлены, дабы власть великого князя и государя славить и возвеличивать. Уразумел, отче Варлаам, к чему клоню я?
Зашатался митрополит, прикрыл глаза. Василий поддержал его, позвал:
— Эй, люди!
В покои вбежали Лизута и Михайло Плещеев. Государь указал глазами на Варлаама:
— Помогите! Вишь, недомогает отче. Отведите в митрополичьи хоромы.
* * *
Великокняжеский воевода боярин Тучков третье лето сидит в Казани безвыездно при хане Шиг-Алее.
Почуяв приближение смерти, Мухаммед-Эмин упросил государя Московского Василия отпустить касимовского царька Шиг-Алея, внука Ахматова, на казанское ханство.
Новый хан, к неудовольствию беков и мурз, правил Казанской ордой так, как ему указывал московский боярин.
* * *
Прискакал в Москву атаман Фомка со своими казаками с вестью: атаман Дашкович с другими старшинами и атаманами затаили измену против Москвы. На деньги польстились.
Рассказал Фомка боярам и великому князю, что самолично видел, как получал Дашкович от людей польского короля кожаные мешки со злотыми за то, чтобы стоял Евстафий заодно с Сигизмундом против великого князя Московского.
А ко всему вступил ныне Дашкович в сговор с крымским ханом и пускает среди каневских и черкасских казаков всякие небылицы о великом князе и государе Московском. А чтобы куренные атаманы да старшины за ним тянулись, дал Евстафий им злотых. А больше всего другу своему, атаману Серко. Фомке тоже злотых предлагал, но он не взял и казаков своих отговорил. Сказал: «За тридцать сребреников не продамся и на Русь с оружьем не ходок. Крымцам и католикам в этом не товарищ».
Василий Фомку-атамана щедро наградил, дал денег и шубу со своего плеча, а казаков его куреня взял в свою службу и велел поселить на окраине рязанской земли. Наказал великий князь вместе с ратными людьми беречь границы от крымцев.
* * *
Разбрасывая комья грязи, конь широким намётом нёс Курбского по предрассветным улицам Москвы. Крупные капли дождя секли по лицу, затекали за ворот кафтана. Одежда промокла насквозь.
Князь Семён пожалел, что отказался ехать в крытом возке. Не стал дожидаться, пока холопы запрягут, поспешил. Хотелось застать инока Вассиана.
Только на рассвете стало известно Курбскому, что вчера, отслужив обедню, митрополит Варлаам сложил митрополичий сан и уехал в отдалённый северный монастырь. А сегодня утром увезут в Кирилло-Белозерскую обитель инока Вассиана с Максимом Греком.
Слышал князь Семён, что накануне у Варлаама с Василием спор произошёл. Отказал митрополит великому князю в разводе. А тот унижал Варлаама, стращал.
Мчится конь. Вот уж и ворота монастырские нараспашку.
Зажав в руке котомку со скудными пожитками, Вассиан присел на край жёсткого ложа, в последний раз обвёл глазами тёмную келью.
Сколь лет прожито здесь? Думал, доживать в ней придётся, ан нет, в Белозерский край уезжать. Туда же, в соседний монастырь, повезут и Максима.
К себе у Вассиана не было жалости, а о Греке печалился. Как приживётся он в холодном краю? Тут, в Москве, где теплее, чем на Белоозере, и то недомогает Грек.