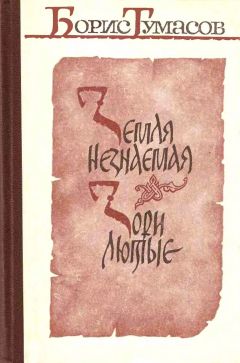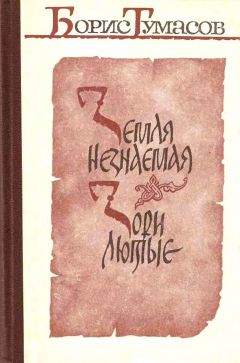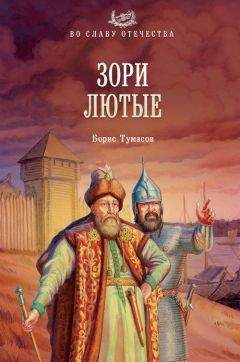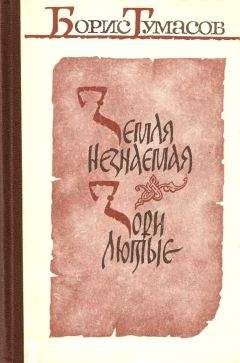Мчится конь. Вот уж и ворота монастырские нараспашку.
Зажав в руке котомку со скудными пожитками, Вассиан присел на край жёсткого ложа, в последний раз обвёл глазами тёмную келью.
Сколь лет прожито здесь? Думал, доживать в ней придётся, ан нет, в Белозерский край уезжать. Туда же, в соседний монастырь, повезут и Максима.
К себе у Вассиана не было жалости, а о Греке печалился. Как приживётся он в холодном краю? Тут, в Москве, где теплее, чем на Белоозере, и то недомогает Грек.
Устал Вассиан, уж нет теперь неистового борца с иосифлянами, а есть убелённый сединами немощный старец.
Вассиан поднял с пола котомку, опираясь на посох, вышел во двор. Рассвело, но дождь не унимался. Впряжённые цугом, стояли наготове возки. Мокли кони, фыркали. Сыро. У переднего возка, надвинув капюшон на глаза, сутулясь, ждал Вассианова выхода Максим Грек. Не прячась от дождя, толпились сумрачные монахи. Служилые дворяне, наряжённые сопровождать Вассиана с Греком до самого места, не слезали с седел, лениво переговаривались, поругивая погоду и еретиков-монахов.
Пригнувшись под перекладиной ворот, в монастырь на полном скаку ворвался князь Семён, осадил разгорячённого коня, спрыгнул наземь и, кинув повод караульному монаху, медленно приблизился к Вассиану. На миг забыв, что перед ним инок, сказал:
— Прости, князь Василий Патрикеев, что не могу помочь тебе в тот час, когда ты обиду терпишь. Ты за нас в заступ не таясь ходил, а мы покинули тебя.
Вассиан поднял голову. Большие, не по-стариковски синие глаза глянули на Курбского.
— Забудь, княже Семён. Инок я, не князь Патрикеев. То было давно. Государю Ивану Васильевичу было угодно отца моего и меня в монахи постричь и бояр да князей под себя забрать, а сын его Василий отцово доканчивает!
Вассиан поклонился сначала Курбскому, потом повернулся к монахам:
— Простите, братия.
И полез в возок.
— Гони! — в сердцах гаркнул десятник из дворян, и возок, жалобно заскрипев, тронулся.
Уже выезжая за ворота, Вассиан вдруг приподнялся, обернулся и, погрозив кому-то невидимому, прокричал:
— Во всём, во всём злые деяния иосифлян усматриваю! Не смиряйтесь!
* * *
— Улю-лю! Алля!
Гикали и свистели воины Сагиб-Гирея, гарцевали под стенами белокаменного казанского кремля.
— Эгей, казанцы! Хан Сагиб, брат единоутробный великому хану Магмет-Гирею, идёт к вам! — кричал, потрясая бунчуком, татарский сотник. — Открывайте ворота, впускайте нового хана! Гоните Шиг-Алея с московским воеводой!
В ханский дворец сошлись беки и мурзы. Входили темники, рассаживались на ковре полукругом. Ждал Шиг-Алей, что скажут они. Те молчали, прятали глаза.
Но вот, нарушив тишину, заговорил темник Абдула:
— Хан Шиг-Алей, не вини нас, но мы не хотим биться с Сагиб-Гиреем. У нас нет силы.
— А что скажут другие темники? Ты, Назиб, и вы, Сабир и Берке? — тихо спросил Шиг-Алей.
— Мы ответим то же, что и Абдула, хан. У Сагиба больше воинов, чем у нас, — ответили в один голос темники.
Осмелели, заговорили беки и мурзы:
— Покинь город, Шиг-Алей, мы не станем драться из-за тебя.
— Уезжай вместе с боярином Тучковым к себе в Касимов, а мы отдадим Казань Сагиб-Гирею.
— Пусть Сагиб будет нашим ханом.
Напружинился Шиг-Алей, дождался, когда беки и мурзы выскажутся. Но не выдержал, вскочил. Затравленно озираясь, зашипел угрожающе:
— Яман! Собаки! Я уйду из Казани, но вы пожалеете об этом! И, брызгая слюной, ругаясь, выбежал из дворца.
* * *
Великий князь обедню вытерпел до конца. Не хотелось обижать нового митрополита.
Горят, потрескивают в серебряных шандалах свечи, пахнет в соборе ладаном. Золотом отливает риза у митрополита Даниила.
Голос у него чистый и сильный, несмотря на преклонные годы.
Бывший игумен Волоцкого монастыря после Иосифа Даниил, став митрополитом, самолично, в угоду великому князю постриг Соломонию в монахини и отправил в монастырь.
Василий ждал от жены упорства, по Соломония ни слова не вымолвила, ни слезы не проронила. Послушно восприняла приговор митрополита. Лишь в час отъезда, когда навсегда покидала княжеские хоромы, сказала сквозь зубы:
— Ох, Василий, погубил ты свою и мою душу, взял на себя грех.
Великий князь встрепенулся, прогнал назойливую мысль.
Скоро, теперь уже скоро молодая Глинская будет великой княгиней. Митрополит дал согласие на женитьбу Василия.
Из собора вышли засветло. Вечер тихий и тёплый. Накануне дождь смыл пыль с листьев, освежил. На паперти канючили, протягивали руки нищие.
Великий князь шагал впереди, за ним толпой валили бояре. Неожиданно Василий остановился, круто повернулся и лицом к лицу встретился с Курбским. Тот не ждал, растерялся, а великий князь ощерился:
— Княже Семён, сказывают, ты по Вассиану плакался, прощаться к нему в монастырь ездил?
Курбский отступил, но взгляд государя выдержал. В предчувствии недоброго глухо бьётся сердце у князя Семёна. А Василий не говорит, мурлыкает:
— И чем тебе, княже Семёнушка, инок Вассиан полюбился, может, не утаишь от меня, сирого и слабоумного? Ну, ну, молчи. Вишь, и бояре мои безмолвствуют.
Василий повёл по толпе немигающим взглядом. Опустили головы бояре, ждут грозы, а великий князь своё гнёт:
— Сдаётся мне, храбр ты, княже. Такие слуги мне нужны. Пора тебе, князь Курбский, во Псков отправляться. Заждались тебя там на воеводстве. Вот и кажи свою удаль противу литвин.
Князь Семён отвёл глаза в сторону, наткнулся взором на Михаилу Плещеева. Тот улыбается злорадно. Доволен, глядючи, как унижают Курбского. Может, ждёт, когда Василий князя Семёна в пыточную отправит и велит предать смерти, как боярина Версеня? Иначе чему скалиться?
Не перечит Курбский великому князю, молчит, что в рот воды набрал. Видно, тем и спасся. Коли б слово поперёк вымолвил, быть бы худу. А то Василию и распалиться не после чего. Остыл, отвернулся. Уже с паперти спускаясь, кинул:
— Так во Псков собирайся, княже Семён. Не оттягивай, не желаю видеть тебя на Москве.
Князь Одоевский строился. Раскатали деревянные хоромы, на их место заложили каменные, высокие, просторные, с верхними и нижними палатами.
Мастеровые свои, не иноземные, умельцы на диво. Кладка узорная, камень к камню подогнан.
Князь посреди двора стоит, подбоченился, не налюбуется.
В углу, за банькой, плотники брёвна на доски тешут. Вонзаясь в медовое дерево, глухо стучат топоры, пахнет сосной.
Переваливаясь на кривых ногах, Одоевский попятился, задрал лысую голову, зашумел на мастеровых, ставивших верх:
— Мал покат?
— В сам раз! — свесился вниз старшой из плотников. Князь положил руки на вислый живот, рот открыл. Ещё на шаг отступил, примерился. Не успел ничего сказать, как во двор, чуть не смяв конём воротнего мужика, въехал Лизута. Замахнулся плёткой на караульного:
— Эко, распялся на дороге!
Завидев Одоевского, поспешно слез с коня. У князя в глазах удивление, зачем оружничий пожаловал к нему, чать, дружбу с ним не водил. А тот к князю подошёл, к уху припал, зашептал:
— Шиг-Алей с Тучковым у осударя. Сагиб-Гирей прогнал их из Казани.
У Одоевского глаза расширились.
— Не врёшь ли, боярин?
— Истину сказываю. Самолично слыхал, как Шиг-Алей осударю сказывал, что казанцы Сагиб-Гирея приняли на ханство и купцов русских пограбили.
— Кака беда! — всплеснул руками Одоевский. — Кака беда!
— Что будет ноне, князь? — засуетился Лизута и шумно выдохнул.
Одоевский не выдержал, прицыкнул на Лизуту:
— Утихомирься, боярин, без тебя тошно. Аль и сам не догадываешься, чему быть? Гирей в Крыму и Казани сели, а коли они на нас с двух сторон попрут, поди отбейся.
Лизута ойкнул.
— Ах ты Осподи, како осударю?
Одоевский сплюнул со злостью, передразнил:
— О-су-дарю! На всю русску землю беда надвигается.
И отвернулся, взялся за бороду, задумался. Окольничий на месте не стоит, суетится.
— А может, минёт?
— Отколь мне ведать, — пожал плечами Одоевский. — Однако сомневаюсь. — И через время сказал: — Ко всему надобно готовым быть, а напервое порубежных воевод упредить. Да мыслю, государь о том позаботится.
— Лютует осударь. На Шиг-Алея кричал, сапогами топал. А уж боярину Тучкову досталось… — Лизута схватился за голову. — Грозил и словесами разными обзывал.
— Теперь что из того. — Одоевский потёр лоб. — Ко всему, смоленская забота одолевает. Заключить бы уговор с королём, всё легче. Неспроста Сигизмунд приднепровских казаков золотом одаривает.
— Ох-хо, — снова вздохнул Лизута, — страсти каки ты, князь, речёшь.
Оружничий долго вдевал ногу в стремя, прыгал на одной ноге, злился. Подбежал мужик, помог усесться в седло.