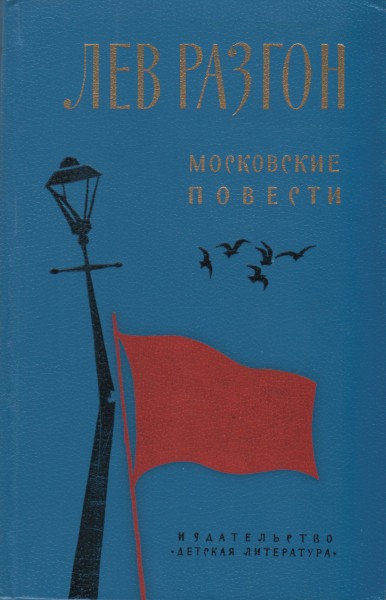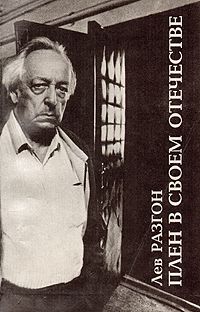есть февральские. Железная дорога занесена, приходится мобилизовывать горожан и крестьян на ее расчистку. Грунтовые дороги все переметены. Утром, еще в темноте, Штернберг садится в возок, чтобы ехать на позиции. Если в штабе Соловьев, то он всегда выйдет проводить, подоткнет ему тулуп, проверит, надел ли он свой знаменитый меховой жилет. Штернберг злится и смеется.
Стоит только выехать за город, как дорога исчезает в сугробах, ездовой гонит лошадей только по чутью. Частенько возок попадает в метель. Тут уж и вовсе нельзя понять, куда тянут лошади. Штернберг вспоминает пушкинские стихи, время от времени спрашивает ездового, не сбился ли он с пути. А то некрасиво получится: привезти в расположение белых комиссара армии... Волки разнахальничались — не только ночью, но и днем иногда гонятся за санями.
Тяжело наступать в такое время! За весь месяц продвинулись всего-навсего километров на тридцать — сорок. Продвинулись и остановились. Шорин с самого начала был против этого наступления. У половины красноармейцев нет валенок, нет ни одной пары лыж, лошади падают от бескормицы, а без лошадей вообще делать нечего — не тащить же на себе пушки, снарядные ящики, продовольствие...
Хорошо, что в командовании фронта сейчас Гусев, который знает Вторую армию не понаслышке. И верит командарму. А Шорин уговаривает командование фронта не растрачивать силы, готовиться к весне, когда начнется наступление белых.
В этом нелегком ожидании проходит зима. Тяжелая, не похожая на прошлогоднюю. Кончились тридцатиградусные январские морозы, заканчиваются февральские вьюги. Снег становится сырым, плотным. Дороги начинает понемногу развозить, все переброски грузов сейчас идут ранним утром, когда прочный наст выдерживает даже тяжело груженные сани.
Наступление белых началось раньше, чем это предполагал даже сверхосторожный Шорин. 4 марта фронт пришел в движение. Оседлав все дороги, поставив своих стрелков на лыжи, Гайда ударил в стык двух армий: Второй и Третьей. Южнее основные силы Колчака нанесли удар по Пятой армии и уже 14 марта заняли Уфу.
Штаб Второй армии начал стремительно перемещаться на запад. Командарм спешно выводил свои силы из-под удара белых. Шорин был уверен, что наступление белых выдохнется, как только окончательно развезет дороги. Так оно и получилось. Части генерала Гайды увязали на раскисших дорогах и в проснувшихся болотах. Полки Второй армии свободно уходили на запад.
Конечно, в этом быстром марше было и что-то бесконечно грустное — как во всяком отступлении. Газеты, выпускаемые Штернбергом, десятки агитаторов убеждали красноармейцев, что отступление временное, что наступательный порыв белых скоро выдохнется. Штернберг верил, что не за горами наше ответное наступление. А все-таки... А все-таки они уходили из городов и сел, оставляя в страхе бедноту и торжествующих бывших чиновников, крупомолов, лабазников... 7 апреля пришлось оставить Воткинск, а через неделю и Ижевск. А потом и дойти до реки Вятки.
В начале отступления армии, когда красные оставили Оханск и Осу, а штаб Второй армии выехал из Сарапула, Штернберг остановился на ночевку в большом селе. Квартирмейстер привел его в огромный деревянный дом, где когда-то под одной крышей находились и постоялый двор, и трактир, и лабазы. За несколько часов до Штернберга туда приехал Соловьев и, как обычно, заботливо встречал Штернберга: стаскивал с него тяжеленный тулуп, помогал снять мокрые валенки. На раскаленной плитке уже плевался кипящий чайник, в углу были свалены большие пачки газет.
— Неужто московские, Василий Иванович? — радостно спросил Штернберг. — Почти десять дней не было!
— За целую неделю привезли. Они, оказывается, два дня назад были доставлены в штаб и вместе с нами отступали...
— Смотрели уже? Есть новости?
— Смотрел, — виновато ответил Соловьев. — Как не быть новостям! Разным — и хорошим, и плохим...
— Ну, давайте с плохих. Лучше начинать с них, — решительно сказал Штернберг.
Несгибающимися от холода пальцами он взял серый тонкий лист газеты. Это были московские «Известия» от 20 февраля. Штернберг посмотрел на первую полосу, перевернул газету. В отвратительно черной рамке мелькнула фамилия. Такая знакомая, такая бесконечно родная... Гопиус! В некрологе по-военному кратко сообщалось, что 15 февраля от сыпного тифа скончался заместитель военного комиссара Московского района по инженерной части, активный участник октябрьских боев в Москве Евгений Александрович Гопиус...
Уронив газету на колени, Штернберг сидел прямо, уставившись в деревянную стену. В его ушах вдруг зазвенел резкий голос Гопиуса, он вспомнил его лицо, саркастическую улыбку, спокойствие в самые трудные минуты. Вот ушел и еще один спутник его жизни. Да, Гопиус сопровождал его почти все годы жизни в партии. Мятущийся, не признающий никаких авторитетов Гопиус, нашедший себя окончательно лишь в дни октябрьских боев. И проживший после этого только полтора года...
— Да, да, хорошо его помню, — сказал Соловьев. — Несмотря на всю его резкость, в нем было что-то необыкновенно привлекательное. Неординарность, что ли? Он был какой-то неожиданный...
— Он был надежный, — устало сказал Штернберг. — Он был нравственно надежным человеком. Он всем казался неожиданным в речах и поступках... А в действительности у него был совершенно железный круг нравственных представлений, и он никогда не переступал его. Никогда не изменял своей совести, на него можно было положиться, как на каменную гору. Но и горы не вечны. На семь лет моложе меня был Женя... Устал я от смерти молодых, Василий Иванович. Идет война, каждый день гибнут на моих глазах прекрасные молодые люди, полные сил. А меня, старого и обомшелого, ни пуля, ни сыпняк не берут...
— Павел Карлович, бедный вы мой, я понимаю, что значит терять близких... Но что же мы с этим можем сделать? Нам, оставшимся, надо продолжать жить. И драться. И работать.
— Да, надо. Если завтра будет дневка, организуем бойцам баню. Мне возница сказал, что тут не только по избам бани, но есть одна общая. Натопим ее, пусть хоть несколько сот красноармейцев помоются. Вот и будет им и отдых и удовольствие. А я сейчас лягу. Ужинать не хочу, извините меня, милый...
Весну Вторая армия встречала на реке Вятке. Впрочем, это уже была не только Вторая армия. Восточный фронт укреплялся с каждым днем. Чуть ли не ежедневно прибывали из центра подкрепления, оружие, боеприпасы. Вторую и Третью армии объединили под командованием Шорина. И Шорин — теперь уже не командарм, а командующий группой войск — все дни в дивизиях: давал разгон командирам полков, голос его гремел с неумолкающей силой.
Контрнаступление советских армий началось на юге Восточного фронта в самых последних числах апреля. По вечерам, когда