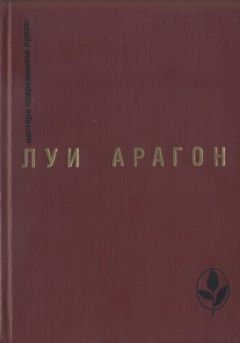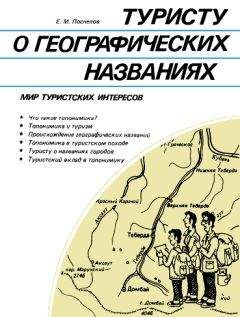— Раз не стоит умирать, значит, сударь, стоит жить.
Эти слова произвели сильное впечатление на нашего кавалериста, однако не убедили его. Хозяйская дочь больше молчала, Теодор ей явно нравился. Маленький Жан выпросил разрешение посидеть подольше и жадно слушал разговоры взрослых, но около полуночи он стал клевать носом, и мать отправила его спать.
— Ах ты мой Жан-простачок, — сказал майор, — глазки слипаются, пора идти «шлафен».
Это словечко ввели пруссаки, стоявшие во главе с генералом фон Юргасом в Бетюне с половины апреля до половины мая прошлого года. Единственные приятные воспоминания от их пребывания. Родственник господина де Беллоне отказался поставить их коней в конюшню гостиницы на Аррасской улице, за что прусские солдаты гнали его ударами сабель через весь город, пока он не упал мертвым.
— Не хватает, чтобы это повторилось! А сейчас, друзья, пора и нам идти «шлафен»!
Но о «шлафен» не могло быть и речи. В комнате Фреда, хозяйского сына, уехавшего в Париж, имелась лампа под зеленым абажуром, но масла в ней не оказалось, и Теодору поставили свечу в стеклянном подсвечнике. Он уселся на край кровати. Кровать была светло-желтая, немецкого дуба, широкая и с колонками, а над ней — балдахин с фестонами и занавесками из зеленой саржи.
— Эту кровать оставил в наследство Фреду наш дядя Машю… Он был священник, присягнувший конституции, за что его потом сживали со свету… — вот и все объяснения, какие, показывая комнату, дала ему хозяйская дочь.
Прелюбопытная девушка эта юная Катрин. Некрасивая, но прелюбопытная. Да, кровать в самом деле такая, какие бывают у деревенских кюре. Катрин всячески старалась оправдать свое пребывание в комнате, как будто оно могло показаться мушкетеру предосудительным. Она заглянула в пузатый кувшин на умывальнике — не забыли ли налить туда воды. В этом городе только и думают, как бы воды хватило. Предположим, я бы удержал эту девушку за руку и поцеловал ее… Дурацкое предположение. Мне и самому этого не хочется, да и принимая во внимание майора… Предположение, конечно, дурацкое, но оно, возможно, означало, что, если бы я удержал Катрин за руку и завязался бы роман, у меня бы оказалось для чего жить. Если нет смысла умирать, это еще не значит, что есть смысл жить. Где этого инженера научили так рассуждать, в Политехническом институте, что ли?
Все дело в том, что давеча, когда мы вдруг очутились одни — я хочу сказать, без начальников, потому что они поехали за графом Артуа, — когда мы все сразу, не сговариваясь, поняли, что судьба наша в наших руках, и начали по-демократически… да, по-демократически… обсуждать, как нам поступить, вот тут что-то переменилось в жизни. Мы перестали быть людьми, за которых решают другие, а им самим остается только повиноваться и идти, куда прикажут. И невольно мне припомнилось собрание в Пуа! Может быть, это и есть свобода, а жизнь, где господствует свобода, стоит того, чтобы ее прожить. Может быть. Для молодого Руайе-Коллара главное — слушаться. И как ему не быть потрясенным, когда для того, чтобы слушаться прежних начальников, неизбежно — не нынче, так завтра — придется ослушаться их. Солдат не думает, не судит, не решает. Иначе он бунтовщик. Меня неудержимо влечет ремесло бунтовщика и, судя по всему, ни в малейшей мере — ремесло солдата. Однако же этот капитан инженерных войск — он ведь солдат, и, когда он во что бы то ни стало хочет, чтобы я нашел смысл жизни, представляет ли он себе, что для меня имеет смысл только жизнь бунтовщика, иначе говоря, полное отрицание его нравственного идеала. Вот что! В жизни бунт — это как контрасты в живописи: спрашивается, контрасты между чем и чем, бунт против чего?
Теодор разулся и потер одну ногу о другую, чтобы, не нагибаясь, снять носки. Ощущение, что ноги наконец дышат, было удивительно приятно. Любопытно, на кого похож этот Фред, в чью кровать, или, вернее, в кровать дядюшки кюре, я заберусь точно вор? Ему всего восемнадцать лет, а он уже сражался и знает, чего хочет, он шагает навстречу будущему, которое ясно себе представляет. Он намерен помочь рождению этого будущего, помочь изменить лицо мира… Он солдат и бунтовщик. Да. Но как же сочетается одно с другим? Быть солдатом, сражающимся не ради короля или генерала, а ради идей? Может быть, это и есть свобода. Недурной сюжет для соискания римской премии! Быть священником, принявшим Революцию, — это ведь значит быть священником-бунтовщиком. Каков из себя был дядюшка Машю, когда спал тут за зеленым пологом? Должно быть, он-то и венчал майора с его Альдегондой? Впрочем, в те времена церковный брак был необязателен… Говорят, Фред похож на мать, а значит, и на сестру… Однако пора «шлафен»… По-моему, у майора сегодня вечером был очень неважный вид… А если бы я удержал за руку Каролину Лаллеман, все пошло бы иначе, я ни за что бы не уехал…
Во всем городе и на сторожевых постах одно и то же: никто не решается вздремнуть даже на миг. Хороши мы будем завтра. Вернее, сегодня… И все переговариваются, советуются по двое, по нескольку человек, вслух, шепотом. Неужто это король так задумал? Как быть? Дожидаться возвращения кавалерии… а там будет слишком поздно… Все равно, надо охранять город, не допустить в него противника, если понадобится — сражаться у городских ворот, на стенах, даже на улицах, во дворах. Тоже своего рода доблесть — погибнуть под развалинами Бетюна…
— Да ты бредишь, друг! Погибнуть под развалинами! Не видал ты, что ли, местных жителей…
— Ну а товарищи… ты заметил, Поль, когда он говорил после тебя, тот офицер конвоя… у кого это голубые выпушки, у люксембуржцев? Нет, кажется, у роты Ноайля… так вот, все были согласны с ним: служить королю речами, не покидая Франции! И это, по-твоему, солдаты!
Другие складывали в сверточек то, что можно унести с собой. А еще другие… Однако же, если у старьевщика на Приречной улице торговля идет столь бойко, значит, уже немало таких юнцов, которые, не дожидаясь королевского послания… Так что же они — дезертиры? Очевидно, но ведь и приказ-то был дезертировать.
* * *
День занимался сквозь тот же мелкий дождик, точно сквозь кисейный платочек. С трех часов утра отряд блуждал на пространстве в три мили, терял своих, находил, возвращался, останавливался, пугаясь, что кто-то идет или, наоборот, никто не идет. От четырехчасового топтания по болотам, трясинам и грязи некоторые начали выкидывать странные штуки — они шли, держа пистолеты в руке, и ни за что ни про что готовы были пристрелить первого встречного. Тем не менее, когда небо стало светлеть, у всех немного отлегло от сердца. Хоть бы узнать, где можно по-настоящему выспаться.
— Ну-ну, не надо падать духом: как-никак, отсюда, из Стенверка, меньше мили до границы. А в Бельгии — там тебе и постель, и все, что угодно.
— В Бельгии. Значит, Бельгия тут, совсем рядом, под носом? И ты, стало быть, думаешь уйти в Бельгию?
Один из говорящих ведет в поводу двух лошадей. Их расседлали, чтобы зря не утомлять. Это генеральские кони.
— А у тебя ноги не генеральские, оседлал их и шагай себе, да?
— Ну, раз уж дошли досюда, нельзя же сбежать напоследок…
Кавалерию кое-как собрали, но повозок почти не оказалось: многие увязли в болоте, а остальные подевались неизвестно куда. Люди были в грязи по колено, а некоторые и того больше, кое у кого было измазано даже лицо. Участники перехода через Березину, например Леон де Рошешуар, вспоминали, сравнивали. Растиньяк все твердил:
— Не понимаю, отчего не едет мой кучер, вы не видали зеленой кареты?
— Говорят, большинство повозок опрокинулось в болота или канавы. Некоторые кавалеристы шагают пешком, вот и вы… ничего не поделаешь. Но граница совсем близко. Вам уж лучше податься на Армантьер.
— А где это — Армантьер?
Граф Артуа выехал из села верхом. При нем Арман де Полиньяк и Франсуа д’Экар. Сколько ему, собственно, лет? Нынче утром он с виду прямо старик. Господин де Дама́ больше не жалуется на лихорадку — но из этого не следует, что она прошла. Маршал — один из немногих, у кого уцелела карета. Кто же находится в этой невообразимо измазанной берлине? Мармон успел убедиться, что касса его роты по-прежнему там. Но сам он не может поступить иначе, чем граф Артуа, и, хотя ему очень хочется еще соснуть, он должен браво держаться в седле, ибо на него обращены многие взоры. Господин де Ришелье спрашивает Леона де Рошешуар, где же пресловутый кабриолет.
— Надо надеяться, он догонит нас здесь или в ближайшем местечке — как бишь оно называется?
— Ла-Креш.
— Так, значит, в Ла-Креше. Монпеза!
— Что прикажете, господин генерал?
— Взгляните-ка, нет ли кабриолета где-нибудь там, позади…
— Слушаюсь.
Как я говорил — что напоминает этот дождик? Это какое-то воловье дыханье, мерзкая мокредь. Все предыдущие дни хлестал ливень. А сейчас напасть другого рода — невыносимо раздражает кожу. Ага, вот оно что — мухи, водяные мухи. Что, если на тех же лошадях придется возвращаться вспять, снова переходить болота? Тогда лучше не дожидаться вечера. Да нет, ведь мы же направляемся в Бельгию. Бельгия — это тайный пароль надежды. Пока что дождь щекочет, как тысячи мушиных лапок. Дорога здесь не такая уж скверная, только она отныне не приспособлена для кавалерии, для королевской конницы, идущей сомкнутым строем. Вдобавок она скользкая, ступаешь, как в кисель. Опять остановка. На сей раз это гвардейцы герцога Люксембургского, которым взбрело на ум рысью догонять остальных. Кто ими командует? Ясно, что отпетый дурак.