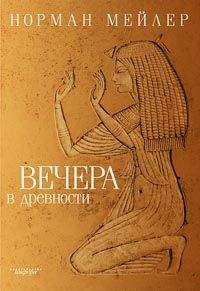И, когда я поднимался в небесный город у поля золотых тростников, чтобы познать превращение столь же великое, как сама смерть, я услышал низкие звуки внутренностей и высокие звуки дыхания, вылетающие из моего горла, крики моего сердца, ревущего в водах, поднимающихся во мне, и я рванулся прочь, чтобы лететь в небеса или разбиться о скалы, и увидел бесчисленные войска Страны Мертвых и мириады лиц — все те проклятые и ставшие совершенными души, которыми могла повелевать Не4)ертари, и тараном ударил в последние врата Ее чрева со стоном и рычанием крестьянского члена, сияние Амона ярко пылало во мне, подобно Сокрытому солнцу в животе моей матери, и Она металась подо мной, как зверь, а Ее волны накатывали на мои с силой Усермаатра, и меня вынесло ввысь, но не столько Ее прибоем, сколько гневом моего Фараона, Который поднял меня, как перышко, над пламенем и бросил вниз, словно камень, а затем ударил меня еще и еще о стены Ее царственной пещеры, моей гробницы. Я извергся, пребывая в Ней, пока буря еще бушевала, и Она омыла меня. Она изошла из каждого великого пространства, что оставил в Ней Усермаатра. Ее сила далеко превосходила мою».
Произнеся вслух эти последние слова, мой прадед Мененхетет упал со своего кресла наземь, и его тело забилось в судорогах. Голова его ударялась о полированный пол. Из своих чар он продолжал говорить, но теперь уже голосом Птахнемхотепа
И когда я узнал звуки голоса моего Доброго Царя Рамсеса Девятого, судороги прекратились и тело моего прадеда стало неподвижно. Но голос продолжал исходить от его лица, отточенный и благородный, усталый и задумчивый, как Сам Птахнемхотеп.
«Мне невыносимы объятия этой женщины. Ее члены слишком тесно обвиваются вокруг Меня. Я ощущаю Себя спеленутым искусным бальзамировщиком. Ее плоть душит меня. И все же Я льну к ней. Мои пальцы проникают в ее глубины. Мой рот припечатан к ее губам».
Это был Его голос. Я слышал его в своих ушах, голос Птахнемхотепа, выходящий из горла Мененхетета, однако я так долго пребывал в мыслях моего прадеда, что эти странные звуки доходили до моего сознания волнами лепета.
Сладкий запах поднимался из крытого внутреннего дворика, запах благовония, такой же приятный для меня, как аромат, исходивший от Нефертари, и на протяжении всех часов той ночи я помнил запах розы на щиколотках Птахнемхотепа, когда я целовал Его ноги. Поэтому я знал, что это Его мысли. Откуда еще было взяться такому благоуханию? Да, подобно тому как вода окрашивается в цвета попавших в нее красок, меня подхватило благоухание Его умащений и несло в нахлынувшем на меня потоке чувств моего Фараона, и теперь я слышал и голос своей матери, так как они с Птахнемхо-тепом разговаривали, точнее сказать — смеялись. Я мог слышать, как они ласкали друг друга: звук легкого шлепка Его рук по ее бедрам, исполненное гордости легкое чмоканье ее рта, коснувшегося Его уха, словно Он был не просто сокровищем из сокровищ, но также дорог ей как ребенок, как я. Там был знакомый мне звук обладания. Я даже уловил момент, когда Его голос утратил суровую сдержанность, и Он перестал ощущать тяжесть ее членов, но блаженство, именно тогда я понял, что моей матери удалось прогнать Его мрачные заботы, усталость, даже Его отвращение, сила ее обожания вобрала все это в ее сердце. Она размягчила Его тело ласками, пока Он не стал подобен полю, готовому принять семя. Она обнимала
Его до тех пор, покуда Его плоть (после каждой волны страха) не стала дышать спокойствием ее пор — как хорошо я знал эту способность своей матери! — и теперь уже из уст моего прадеда исходил голос Хатфертити, хотя мне не приходилось гадать, что она скажет. Я слышал ее в своих мыслях, и в этот момент она говорила о том дне, семь лет назад, когда она и Фараон любили друг друга.
Она лгала. Меня не могли обмануть искренность и простодушие ее голоса. Моя мать умела лгать с таким искусством, что правда играла на ее губах, и Птахнемхотеп почти поверил ей, хотя и помнил, что между ними ничего не было. Действительно, Он все еще мог вызвать в памяти прикосновение Своей руки к ее руке. Вот и все, чем была способна овладеть Его робость в день, когда Он относился к Хатфертити с немалым недоверием. Еще будучи жрецом в Храме Птаха, Он слыхал о ее вольностях с братом и дедом. Об этом сплетничал весь Мемфис. Из всех женщин, показывавших себя быку Апису, она, самая юная, была самой бесстыдной. Теперь же, когда Его руки глубоко погрузились в некоторые из ее сокровищ, Он сказал Себе, что если золото столь же податливо, как и плоть, то ее плоть — золото. Ибо в Нем крепло ощущение, будто лучшее, что она может предложить, еще впереди — прямо под кончиками Его пальцев. Поэтому Он не стал опровергать ее, когда она заговорила о том, как они предались любви семь лет назад на берегах пруда, после того как сошли с папирусного плота. Он даже не покачал головой, когда она вдохнула в Его ухо слова: «В тот час был зачат мой сын».
Но затем Он перевернул ее и, положив руки на ее груди и прильнув ртом к ее губам, рассмеялся и сказал: «Ты ошибаешься. Я стал Фараоном, так и не познав женщины, и оставался таким весь Свой первый год. — Он снова засмеялся. — Вот так-то, — сказал Он, хорошенько шлепнув ее по бедрам, — ты — первая, кто узнал об этом».
«Я узнала об этом в тот день, — сказала она. — Ты был так прекрасен. Я еще не встречала юношу, который бы так волновал меня. Знаешь, тогда я не думала о Тебе как о Царе, но как о жреце».
«Как же тогда ты можешь говорить, что мы любили друг друга?»
«Я могу только прошептать это Тебе на ухо».
Я жил в ее шепоте. Я не хотел слушать странные звуки, подобно сломанным словам, доходившие до меня из сновидений моего прадеда, пусть даже в них и был голос моей матери, ведь я находился достаточно близко к ней, не важно, сколько площадей Дворца нас в тот момент разделяло, чтобы знать, что теперь она говорит Ему, что в тот день они любили друг друга не так, как сегодня. Настоящая любовь, ради которой человек должен быть готов умереть, сказала она, как теперь она готова умереть за Него — нет, такой любви не было. Он не вошел в нее, это правда. Однако из ласкового прикосновения воды, скользившей под их плотом весь тот золотой день, они чувствовали такую близость друг к другу, что, когда они вернулись на берег, она стояла рядом с Ним, исполненная такой радости, что Он оставил в ее руке Свое семя. Тогда она умастила им себя. Его семя в ее ладони стоило больше, чем семя всех остальных.
«И ты умастила себя у Меня на глазах?»
«Не знаю. Я не скрывала того, что делала, но Ты мог и не заметить. Мы глядели в глаза друг другу так долго, что были готовы заплакать — так я любила Тебя в тот день. Твои глаза разожгли во мне желание более страстное, чем сила других мужчин».
В те дни, думал Он, Он оставлял Свое семя в руках многих женщин. Говорили, и Он знал об этом, что женские ладони Ему ближе, чем их рты. Такие сплетни, должно быть, были общим достоянием. Так что теперь она могла и лгать. Разумеется, она обладала волей, чтобы скрыть истину (которой не существовало) в своей голове. Когда Он попытался проникнуть в ее мысли, то не увидел ничего, кроме моего лица. Затем она прошептала: «Он — Твой сын. У него Твоя красота, и Его разум обитает в Твоем».
Мой Фараон вспоминал те годы, когда Он оставлял Себя в женских ладонях. То, что Он сказал затем Самому Себе, я ясно услыхал из уст Мененхетета. «Ты говоришь, что он — Мой Сын?»
«Он был зачат в моем сердце», — сказала она и потерла Его ладонь о свои груди.
В это мгновение Нефхепохем внезапно выскользнул из своего страдания. Яростный храп, исходивший из его горла, прервался. Лежа между мною и моим прадедом, он закричал во сне: «Ты обладаешь всем! У меня же нет ничего! Ты отнял мое сокровище!»
На меня навалилась тяжесть. Я ощутил вес крышки гроба. Она придавила меня с такой силой, что я не мог двинуться, иначе коснулся бы Нефхепохема и попытался успокоить его. От его боли нельзя было отмахнуться. Мне подсказала это скорее та мудрость, что я обрел, чем накопленная мной любовь к человеку, который был моим отцом первые шесть лет моей жизни, а теперь, возможно, стал не более чем моим дядей, братом моей матери! Я испытывал к нему добрые чувства, но страха в них было столько же, сколько и каких-либо сладких воспоминаний моего сердца. Скажем так: я боялся Богов, Которых он мог бы призвать на помощь. Своего нового Отца я хотел защитить больше, чем прежнего.
И пока я лежал там, будучи не в состоянии двинуться, я вновь ощутил всю силу мыслей моего Фараона. Он думал обо мне. Я был Его сыном. Он собирался признать меня Своим сыном. Я ощущал силу в Его груди, отличную от Его прежних мрачных мыслей. Раз Он решил стать моим Отцом, у меня не было сомнений относительно причин такого выбора. Теперь, через мою мать, Он, безусловно, становился ближе ко всему, что мог знать Мененхетет, и таким образом ближе к тому, чего желал более всего, а именно — пребывать в сердце Усермаатра. Жить в звуках голоса Великого Фараона означало обрести силу для того, чтобы более походить на Великого Фараона, от Которого происходила и Его Собственная плоть. Поэтому, когда раздались звуки Его голоса, вышедшие из горла Мененхетета, то они уподобились голосу Дворцового Глашатая, объявляющего прибытие Фараона. Однако то был не просто громкий и звучный голос — поражало содержание сделанного заявления. Он сказал: