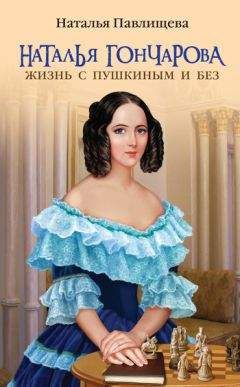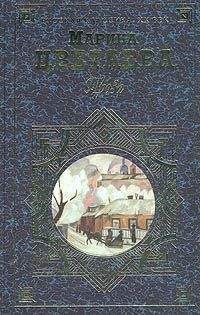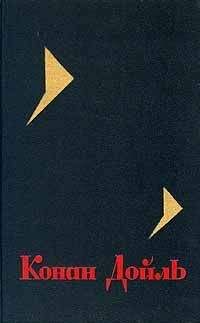выражающей, и нехотя выпустил ее руку из своей.
– Как жаль! – порывисто воскликнула Лиза. – Как бы не был прекрасен райский сад, но быть счастливым, только лишь по не знанию, не то же самое, что, быть счастливым, постигая и овладевая новым опытом, исследуя и изучая жизнь.
– Ох, Лизавета Николаевна, опасные вы мысли высказываете, ох, опасные, а что если, познав что-то окажется, что счастье то и нет, что если счастье лишь в неведении, и лишь до той поры пока глаза застланы шорами.
– Тогда я скажу, что грош цена такому счастью, потому что это и несчастье вовсе, а иллюзия такового, – категорично заявила она. Затем чуть помедлив, продолжила: – И ежели вы будете готовы рассказать, облегчить вашу душу, рассказать мне, что бы то ни было, что тревожит и терзает вас, то не опасайтесь, что раните меня своею правдой, ибо может так статься, что я не так наивна, как вы думаете, и знаю жизнь, гораздо лучше, чем может казаться.
– Я знаю… и в том не сомневаюсь, – задумчиво произнес он, после немного помедлив, встал, и, повернувшись к ней лицом, произнес: – Но разрешите откланяться, боюсь, я, итак злоупотребил вашим вниманием…опять.
Это побег, в том не было сомнений. Побег от чувств? От страха? А может и от того и от другого?
Она посмотрела ему в глаза, и с губ, едва не сорвалась мольба, не уходить, остаться, на секунду, на минуту, навсегда. Но она сдержалась. Не желая быть навязчивой и отпугнуть его тем самым, а значит потерять навеки.
Мейер словно прочитал ее страхи, поспешил заверить ее:
– На том же месте. Завтра в полдень. Я буду ждать вас. И может быть, расхрабрюсь, и расскажу как есть, кто знает, рано или поздно вы итак обо всем узнаете. Поезд из Петербурга идет медленно, но слухи, слухи, будто летят по воздуху, и уж лучше вы обо всем узнаете от меня, нежели из уст других, когда и факты и события, могут быть искажены так, что мое и без того запятнанное имя будет безвозвратно втоптано в грязь, а я буду безнадежно и навечно опорочен в ваших глазах, – потом помедлил немного, и произнес: – Ведь как ни не странно, мне до сего момента, да и сейчас, все равно, что обо мне думает другие, но с недавних пор, мне важно, что думаете обо мне вы, – заключил он, словно произнося это, смирялся с тем самым фактом, которого не хотел и не желал.
Лиза подала ему руку в знак прощанья, чтобы хотя бы на секунду еще раз ощутить теплоту его рук, но он порывисто взял ее ладошки в свои и поднес к губам, запечатлев на них короткий и едва ощутимый поцелуй, после чего не оборачиваясь, стремительно удалился.
Лиза помедлила немного, убедившись, что осталась одна, и поднесла ладошки, которые он только что поцеловал к своим губам. В этом невинном жесте, было столько силы, столько скрытых, спрятанных и засыпанных камнями и пеплом сгоревших и похороненных надежд, надежд на любовь и взаимность. И теперь, чувство, сильнее которого нет на всем свете, пробираясь сквозь камень, скрывающий жаркое и трепетное сердце, дало ростки, нежные, трепетные и тонкие, но такие крепкие, что нет такой преграды, которую своей мощью они не смогли бы разрушить.
Ей не хотелось возвращаться, так она и сидела бы целую вечность, словно затерянная в океане новых и странных чувств, не спеша прибиться к берегу, но прошло слишком много время, и, боясь, что долгим своим отсутствием, она может вызвать у семьи беспокойство, а что, хуже подозренья, и они наведаются в сад. Только не это! Она даже боялась помыслить о том, ведь тогда, тайна, что соединила их, будет раскрыта, а хрупкий союз, не успев окрепнуть, будет навеки разрушен.
Около подъездной дорожки к дому, куда поспешила Лиза, стояла бричка, во всех окнах горел свет, и такое оживление кругом было в самом воздухе, что Лиза невольно заволновалась и ускорила шаг, отчего нога неприятно застонала, напоминая ей, что как бы не окрыляла любовь, все же, в жизни, остаются вещи, не подвластные даже ей.
В зале веселые голоса, и смех сестры громче всех, верно Павел Павлович Трусов приехал. Еще не так давно коллежский регистратор, а ныне коллежский секретарь, а по совместительству муж ее сестры, и только потому коллежский секретарь, ибо отец употребил немалое свое влияние, дабы оказать содействие в прохождении его зятем кругов чиновничьего ада, легче, и быстрее обычного.
– Доброго, Всем, дня, – поздоровалась Лиза, входя в гостиную, – простите за долгое отсутствие, так увлеклась чтением, что и не заметила, как пролетело время, – извиняясь, начала оправдываться она. Ей казалось, что сейчас, буквально каждый в комнате теперь догадывается, какую тайну скрывает она. – Книга! – вдруг, спохватилась Лиза, поняв, что так называемое «алиби» умудрилась забыть на скамье. Но возвращаться было слишком поздно, тем более, когда дом полон гостей.
Трусов поднялся с дивана, приветствуя Лизу, и галантно предложил сходить за ней, но та поспешно отказалась от помощи, и, стараясь перевести разговор на другую тему, продолжила:
Если бы я знала, что прибудут гости, право слово, как мне неловко!
– Лизавета Николаевна, не казните себя, вашей вины в том нет, я никого не уведомил о своем приезде, – заверил ее Трусов, несколько удивленный такому ярому раскаянию.
– И даже меня! – полушутя, пожурила его сестра, чье лицо светилось от счастья, будто только что начищенный до блеска самовар.
– Даже тебя, милая, снисходительно подтвердил тот, впрочем, не слишком довольным, тем, что жена перебила его.
– Мы конечно сюрпризы любим, но право слово, стоило послать письмо и предупредить нас, – заметила недовольно матушка, Мария Петровна Арсентьева.
В комнату вошла прислуга с чаем.
– Вели подать куропаток к ужину, – распорядилась Мария Петровна.
– Ну вот, а я приехал куропаток пострелять! А их уже подают! – весело заметил Трусов.
– Было бы желание, можно и пострелять, – воодушевился Николай Алексеевич Арсентьев. – Завтра и охоту организуем, долго ль нам?
Насидевшись в женской компании, с женой и дочерями, Арсентьев, до такой степени заскучал, что по обыкновению не слишком жаловавший зятя, теперь же был рад даже такой мужской компании. Не сказать, чтобы он не любил мужа дочери вовсе, но все-таки относился к нему скорее холодно, нежели с отцовским теплом. И не без причины. Хотя при всем при том, трезво оценивая старшую дочь, понимал, что Трусов, хотя и не обладает выдающемся умом, однако же, честолюбив и не лишен неких добродетелей, злоблив и мелочен, но не жесток, способен на подлость, но лишь мелкую, ибо до крайности трусоват. Словом, едва ли герой положительный, однако так мал и незначителен, что безобиден. А дочь? А дочь глупа, и