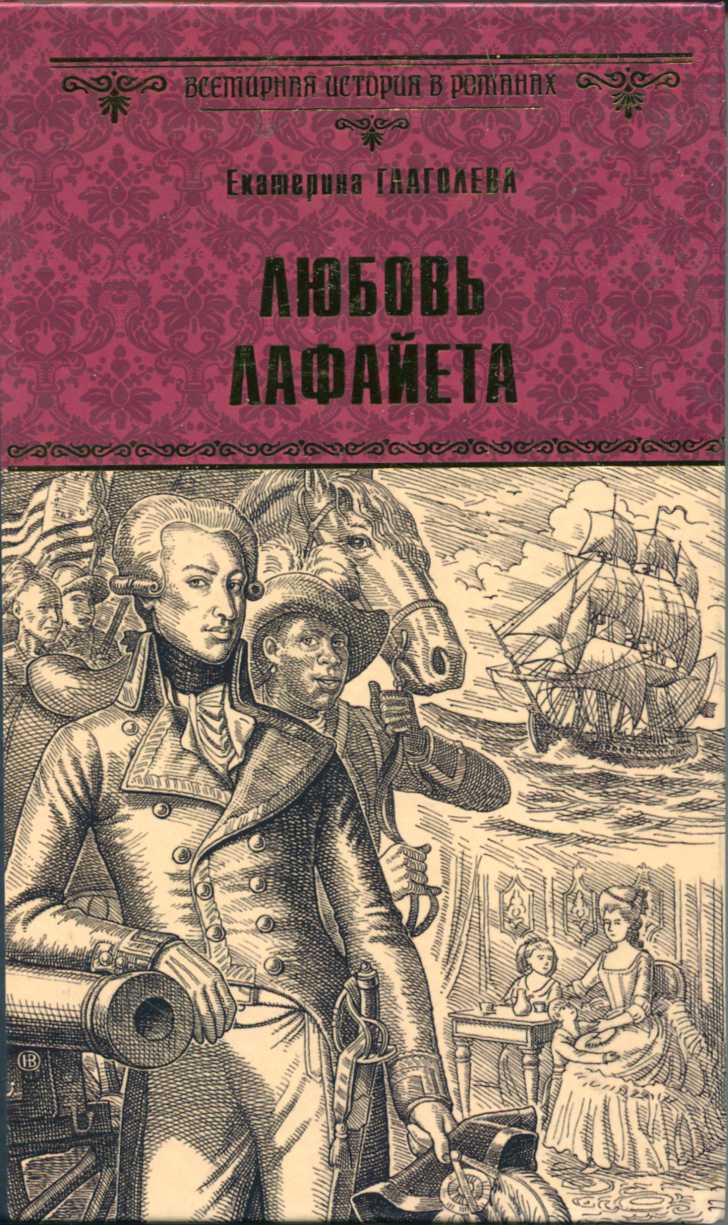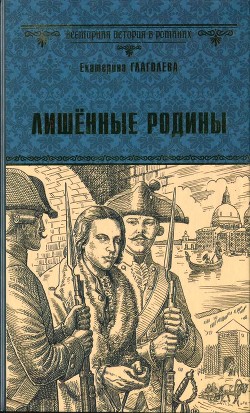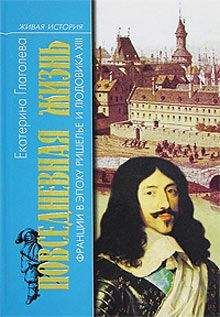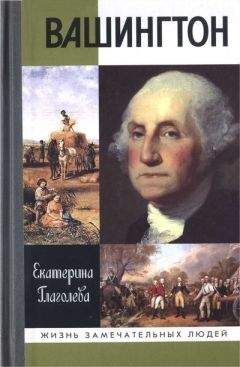но они всё равно не смирились…
…Когда Жильбер, пошатываясь, вышел на крыльцо Дома офицеров, на город уже спустилась тихая августовская ночь. Прямоугольники света от ярких окон падали на неподвижные шатры ив, купавших свои ветви в тёмной воде. Пахнущий речкой ветерок погладил Жильбера по щеке. Лафайет вскинул руку к небу, на котором густо высыпали звёзды, и закричал:
— Ура!
— Ура! — откликнулись офицеры, вышедшие вслед за ним.
Луи расхохотался и обнял его за плечи:
— Лафайет, ты пьян!
— Да, я пьян! — счастливо отвечал Жильбер. — Но не подумай, что это от вина! Я наконец-то нашёл её — у моей жизни теперь есть цель!.. Ты только представь себе, Ноайль: где-то далеко за морем есть люди, готовые сражаться за свободу! О, как бы я хотел быть рядом с ними! Америка! Вот где я хочу проливать свою кровь! Скажи: ты со мной?..
Америка! Эта страна теперь занимала все его мысли. Он хотел знать о ней всё: какие там города, реки и горы, какие люди там живут, чем они заняты, что там выращивают и производят. Он отправил письмо герцогу д’Айену, прося раздобыть ему любые сочинения об Америке, и обошёл все книжные лавки в Меце. Один книготорговец-протестант украдкой продал ему третье издание «Философической и политической истории о заведениях и коммерции европейцев в обеих Индиях», запрещённой и внесённой в чёрный список католическим духовенством. Книгу тщательно обернули тёмной тканью и перевязали бечёвкой; придя к себе, Лафайет задёрнул шторы, зажёг свечу и бережно развернул драгоценный свёрток. За титульным листом оказалась гравюра, с которой на читателя сурово смотрел сидящий вполоборота пожилой мужчина с грубо вылепленным бритым лицом, в головной повязке и с пером в руке — аббат де Рейналь.
Сведения о португальцах, испанцах, голландцах и их колониях в Ост-Индии Лафайет просмотрел очень бегло, чтобы поскорее перейти к завоеваниям европейцев в Северной Америке. Рассказ об этих поселениях Рейналь сопроводил серией очерков о религии, политике, войне, торговле, философии и морали. По его словам, влажный климат и болезнетворный воздух на американском континенте привели к вырождению видов, людей и учреждений; американцы слабее европейцев умом и телом; эта страна не породила ни одного выдающегося мыслителя, художника или литератора. Возможно, — мысленно возразил Рейна-лю Лафайет, — но если переселенцам приходилось сражаться со столькими трудностями, борясь за выживание, разумно ли требовать от них достижений в области искусства и наук? Однако описание жестокостей работорговли потрясло Жильбера до глубины души. Жаль, что практических сведений в книге имелось мало, речь там шла в основном о «естественном законе», не совместимом с деспотизмом, рабством и хищничеством.
Начало было положено; Лафайет уже наметил для себя план действий, но не мог приступить к его осуществлению без одобрения начальства, а маршал де Бройль всё не ехал. Жильбер изнывал от нетерпения, когда тот наконец пожаловал в Мец 14 сентября. Выждав из приличия ещё пару дней, он попросил об аудиенции.
Виктору-Франсуа де Бройлю было под шестьдесят. Его располневшая фигура сохранила подвижность, а округлое лицо с высоким лбом и двойным подбородком — приятность. Блестящие тёмно-карие глаза живо смотрели из-под чёрных бровей, и весь он был олицетворением галантного века Людовика XV, когда даже кровь проливали с изяществом. Если бы Лафайет не знал доподлинно, что маршал с пятнадцати лет участвовал в сражениях и получил свой жезл в пороховом дыму, ему было бы трудно в это поверить.
Де Бройль принял посетителя, стоя вполоборота у своего письменного стола, заваленного бумагами, и коротко осведомился, что ему угодно. Волнуясь и сбиваясь, Лафайет заговорил о восстании в североамериканских колониях, которое потребует военного вмешательства Великобритании. Во Франции наверняка найдётся немало благородных молодых людей, желающих оказать помощь инсургентам в их борьбе и тем самым послужить своему собственному отечеству и своему королю, отомстив англичанам за поражение в прошлой войне.
Маршал медленно подошёл к окну и замер, заложив руки за спину.
— Сколько вам лет? — спросил он, не оборачиваясь.
— Восемнадцать, — ответил Жильбер.
Скрипнул паркет: теперь маршал смотрел ему прямо в глаза.
— Европейская политика — вещь очень тонкая, молодой человек. Вопросы войны и мира решает король, но я не думаю, что современное состояние финансов и положение в стране располагают к тому, чтобы вступить в открытое противостояние со столь мощным противником.
— Ваша светлость, речь вовсе не об открытом противостоянии. Я лишь прошу вас уведомить короля о том, что подданные его величества, известного своей приверженностью к справедливости, по собственному желанию примкнут к борцам за свободу, предоставив ему распоряжаться плодами их побед по своему усмотрению. Ибо я не сомневаюсь, что победа будет на стороне свободы! — пылко закончил Лафайет.
Маршал не торопясь обогнул стол, давая себе время на раздумье, и уселся в кресло. Он смотрел на Лафайета снизу вверх, но при этом, казалось, видел его насквозь.
— Ваш дядя погиб у меня на глазах во время Итальянской кампании, я присутствовал при кончине вашего отца после сражения при Миндене и не хочу способствовать гибели единственного уцелевшего отпрыска этого славного рода, — твёрдо произнёс де Бройль.
— Когда мой отец шёл в свой последний бой, он ещё не знал, что у него есть сын. И тем не менее это не помешало ему исполнить свой долг, — с жаром возразил ему Лафайет. — Моя жена беременна. Даст Бог, в скором времени у меня родится сын. Я буду знать, что род мой не угаснет, а потому с ещё большей радостью пойду сражаться за своего короля — и отомщу за отца.
Маршал снова встал, подошёл к Жильберу и положил обе руки ему на плечи.
— Мальчик мой, увидел ли ты свет? — неожиданно спросил он.
* * *
Стены комнаты были обиты чёрным сукном; в свете тусклого фонаря, стоявшего на полу, едва можно было различить изображения песочных часов, петуха и косы на одной из стен. Поверх белела надпись мелом: «Бдительность и упорство». У стены с надписью МЕСТЬ стоял простой стол, а на нём — череп и кости, хлеб, кувшин воды, бокал и две горки крупного порошка — жёлтого и белого. Присмотревшись, Лафайет понял, что это сера и соль. Его раздели до рубашки, закатали правую штанину, обнажив колено, смяли задник левого башмака и снова надели на ногу, после чего усадили на табурет перед столом и оставили одного в темноте.
Это был «кабинет размышлений». Через час за ним придут и отведут в храм, где он наконец-то увидит свет и вступит в ряды вольных каменщиков. Сейчас же он должен