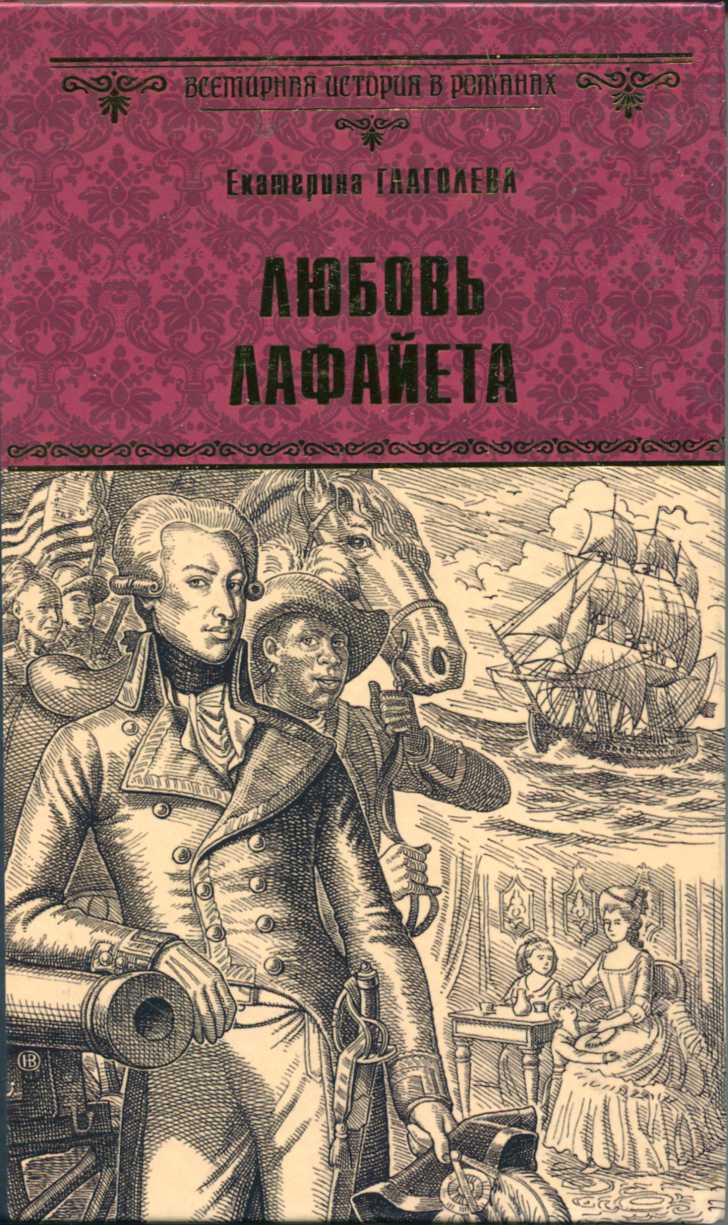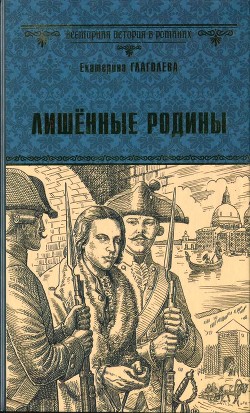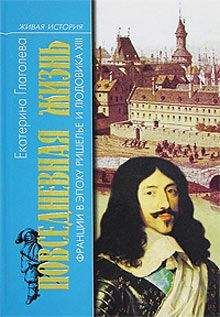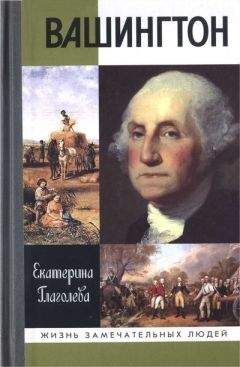найти для себя ответ на три вопроса: каковы обязанности человека перед Богом, перед себе подобными и перед самим собой?
Просто поразительно, насколько мы слепы! Вернее, почти все… Человек видит лишь то, к чему привык, что ему понятно или что он хочет видеть. Он словно лошадь в шорах, понукаемая собственными страстями, засупоненная предрассудками… Но достаточно одной яркой вспышки, чтобы весь привычный мир рассеялся, точно мираж, и ошеломлённому взору открылась совершенно иная картина. Для Лафайета таким толчком стал памятный ужин восьмого августа: тогда он увидел цель, а сегодня, возможно, встанет на путь, ведущий к ней. Сегодня он вступит в братство, сделавшее своими идеалами равенство и свободу. Свобода духа и мысли — те крылья, которые позволят воспарить над низменными потребностями, возносясь к горнему свету мудрости, а братская любовь в конце концов восторжествует над раздорами, и мир тогда не будет знать ни границ, возведённых из ненависти к инородцам, ни пропастей неравенства.
Об этом и многом другом с ним говорил тогда де Бройль. Подумать только: маршал оказался великим мастером масонской ложи Святого Иоанна истинной Добродетели, в которой состояли офицеры королевского Мецского полка! Интересно, знал ли об этом папа?.. Жильбер целый месяц готовился к посвящению, читая в уединении тайно напечатанные книги о Храме Соломоновом, смерти Хирама и целях вольных каменщиков. Сегодня он станет одним из них…
Дверь у него за спиной открылась. Незнакомый голос вопросил:
— Чувствуешь ли в себе призвание?
— Да, — громко ответил Лафайет.
Два человека подошли к нему, завязали глаза, подняли, взяли под руки и повели. Левый башмак так и норовил свалиться с ноги, и Лафайету было от этого неловко. Потом они остановились. Раздался троекратный стук, и чей-то голос спросил через дверь, кто стучит. Человек, стоявший справа от Жильбера, ответил, что маркиз де Лафайет, капитан полка Ноайля, восемнадцати лет, просит принять его в вольные каменщики. «Составил ли он своё завещание?» — спросил голос. Человек справа сжал ему локоть, и Лафайет ответил, что видит своё призвание в том, чтобы поклоняться Высшему существу, служить своему отечеству, любить ближнего, помогать обездоленным и быть честным человеком. «Впустите его!» — произнёс голос.
Лафайет почувствовал, что находится в большом помещении, где много людей. «Поводыри» снова взяли его под руки. Сделав круг по комнате, они остановились, и Лафайету дали выпить «чашу горечи», а затем пошли дальше; во время третьего круга рядом с ним вдруг жарко вспыхнул невидимый огонь, и Жильбер вздрогнул от неожиданности. Наконец его остановили и велели сделать три шага вперёд.
— Чувствуешь ли ты в себе призвание? — услышал он уже знакомый голос, только теперь прямо перед собой.
— Да.
— Дайте ему узреть свет, он долго был лишён его.
С Лафайета сняли повязку, и он увидел, что стоит напротив кресла, в котором сидит маршал де Бройль в голубой шейной ленте в форме треугольника, в белом фартуке с изображением храма и с молотком в руке. Вдоль стен выстроились в круг люди с обнажёнными шпагами в руках, а сам он стоит на рисунке пирамиды, по обе стороны от которой начертаны, также мелом, буквы J и В. По концам пирамиды стояли три высоких факела; верно, мимо них его и водили.
Сделав ещё три шага вперёд, как его учили, Лафайет приблизился к креслу венерабля, перед которым стоял низкий табурет.
— Ты вступаешь в досточтимый орден, который значительнее, нежели ты думаешь, — услышал он ещё один знакомый голос и с удивлением узнал Покатигорошка. — В нём нет ничего против закона, против религии, против государства, против короля или против нравов.
Лафайет встал правым коленом на табурет, держа левую ногу на весу.
— Обещаешь ли ты никому и никогда не открывать тайну франкмасонов и масонства? — вопросил де Бройль.
Лафайет обещал. Ему обнажили левую грудь и дали в левую руку циркуль, который он приставил к соску, правую же положил на Евангелие, чтобы принести клятву:
— Повязка предрассудков спала с моих глаз: я убедился, что лишь в этом святилище я обрету добродетель в беседах с венераблем и наблюдая пример досточтимых братьев. Клянусь, во имя Верховного Строителя всех миров, никогда и никому не открывать без приказания от ордена тайны знаков, прикосновений, слов доктрины и обычаев франкмасонства и хранить о них вечное молчание, обещаю и клянусь ни в чём не изменять ему ни пером, ни знаком, ни телодвижением и никогда не разглашать того, что мне теперь уже известно и что может быть вверено впоследствии. Если я не сдержу этой клятвы, да сожгут и испепелят мне уста раскалённым железом, да отсекут мне руку, да вырвут у меня изо рта язык, да перережут мне горло, да будет повешен мой труп посреди ложи при посвящении нового брата как предмет проклятия и ужаса, да сожгут его после и развеют пепел, чтобы на земле не осталось ни следа, ни памяти изменника. Да избавит меня от сего несчастья Великий Архитектор Вселенной!
Де Бройль улыбнулся, встал и поставил Жильбера рядом с собой, а все братья по очереди подошли и троекратно обняли его. На Лафайета надели белый кожаный фартук с изображением перекрещенных циркуля и угольника и дали ему перчатки. Затем все прошли в соседний зал, где уже были накрыты столы для агапы — братского пира. Осушить бокал называлось «дать залп»; «залпы» перемежались гимнами. Лафайет пил и пел вместе со всеми и был совершенно счастлив.
Госпожа д’Айен внутренне ликовала: Адриенна решилась принять первое причастие. С самого утра в её душе пели ангелы. Небо, как по заказу, окрасилось в лазоревый цвет; за окошком кареты мелькали деревья, ещё сохранившие свой парчовый убор, словно и они ждали этой минуты и не хотели встретить её в убожестве. Торжественные звуки органа вызвали слезы умиления; госпожа д’Айен промокнула глаза платком, пока её дочь получала из рук священника просфору.
— Ты рада? — спросила она Адриенну, когда они сели в карету, чтобы ехать домой.
— Да, мама, очень!
Она действительно была рада. Теперь, если Господу будет угодно забрать её жизнь во время родов, она попадёт на небеса и будет оттуда оберегать Жильбера, поджидая его к себе.
В последнее время у Адриенны часто менялось настроение. Ей вдруг начинало казаться, что Жильбер разлюбил её, — почему он так долго не пишет? Она целый день не выходила из комнаты и плакала в подушку. Наконец приходило письмо с уверениями в неизменной любви и сетованиями на разлуку; Адриенна перечитывала его много раз и носила на груди, возле