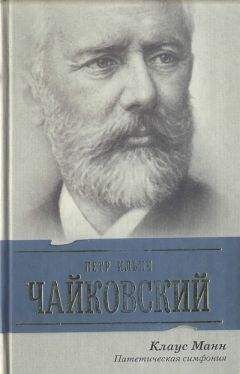Григ молчал, Нина кивала, Петр Ильич растроганно смотрел на них.
— Но нашу национальную музыку, — сказал Григ, — ее у нас никто отнять не смог, и никакая интрига не способна была заглушить ее мелодии. Мы нашли ее, когда были еще совсем молоды, нашу скандинавскую мелодию! — Он обратил свое слегка раскрасневшееся от прилива энтузиазма лицо к Петру Ильичу. — Ну вам-то это наверняка понятно, дорогой мой Чайковский! — воскликнул он. — Вам это должно быть целиком и полностью понятно. Вы же для России создали то, что мы с несколькими единомышленниками имели счастье создать для Норвегии, что сейчас, возможно, молодому Дворжаку суждено создать в Праге для Чехии, — вы подарили России национальную музыку.
Петр Ильич, как будто стыдясь, склонил голову: «Вы меня в это не впутывайте!» И, опустив глаза, как человек, выслушавший комплимент, которого не достоин, он стал вспоминать все упреки и оскорбления, которые ему приходилось читать и выслушивать в Москве и в Петербурге: что музыка его не достоверная, не подлинная, не патриотическая; что она безликая, чопорная, слишком западная, продукт безбожного влияния еврейского музыканта Антона Рубинштейна — совсем не русская музыка. А подлинные, достоверные — это так называемая «Могучая кучка» — пять композиторов, которые начинали с народных песен и так ничему больше и не научились. И уж самый наидостовернейший из них — это Мусоргский, патетический гений, пьяница, исконный россиянин, выходец из народа, которого Чайковский окрестил «буйным дилетантом».
— Вы меня не впутывайте! — попросил Чайковский.
Но Эдвард Григ уже вернулся к теме Норвегии.
— Может быть, мы не великая нация, — говорил он, — но у нас есть свои национальные герои, это уж бесспорно! — Голос его звучал как фанфары; мелкие морщинки забавно играли вокруг глаз. И он заговорил о Рихарде Ноордрааке: — Замечательный юноша, который написал наш гимн. Да, он раскрыл мне глаза или, скорее, уши, и вдруг я услышал ее, нашу скандинавскую мелодию. Нам обоим было по двадцать лет, когда мы познакомились. Я как сейчас вижу то место — Тиволи в Копенгагене. Я тогда работал в Копенгагене. Ноордраак сказал: «Вот, наконец-то нам, двум великим людям, довелось встретиться!» Да, мы были тогда молодыми, смешными, и бесстрашными! Но мы к тому времени действительно уже успели кое-чего достичь — не многого, что касается меня, но все-таки, — и мы оба уже были немного знамениты. Да, это было тогда, в Тиволи… Ноордраак три года спустя умер.
— И он написал гимн вашей страны, — произнес Петр Ильич, как будто этот факт придавал ранней смерти Рихарда Ноордраака еще более трогательный и загадочный смысл.
Григ заговорил об Ибсене и Бьёрнсоне.
— Ведь наша страна богата выдающимися личностями, а эти двое являются представителями обоих полюсов нашей сущности. Ибсен — это, наверное, самый жуткий человек, с которым мне приходилось встречаться, — сказал Григ. — Я как сейчас вижу его перед собой, как он на меня смотрел, когда я впервые навещал его: этот ледяной, проницательный, ужасно умный и ужасно печальный взгляд. Дело было в Риме. Это уже так давно, больше десяти лет назад… Но с Генриком Ибсеном дружеских отношений не заведешь, — Григ огорченно качал своей изящной головой, а его жена Нина казалась испуганной и печальной под впечатлением величия и холодности Генрика Ибсена, которого ее Эдвард посетил в Риме и который так устрашающе на него смотрел.
— И все-таки, — произнес Петр Ильич, глядя на норвежца, — все-таки ваше имя навсегда связано с именем Ибсена. «Пер Понт» связал вас друг с другом.
— И я горжусь этим, — тихо ответил Григ. — Но вот Бьёрнсон, — воскликнул он, и глаза его засияли, — с нашим Бьёрнсоном вас обязательно нужно познакомить! Он — это самое замечательное, что у нас есть, можете не сомневаться. Правда, любимый мой человечек? — обратился он, неожиданно заливаясь звонким смехом, к Нине. Нина кивала и смеялась вместе с ним. А Эдвард продолжал рассказывать о Бьёрнстьерне Бьёрнсоне, «некоронованном короле Норвегии». Он с таким энтузиазмом рисовал словесный портрет своего великого друга, что тот, казалось, сам предстал перед ними: гигант с тихим, ласковым голосом, который мог гудеть и грохотать, возмущенный несправедливостью, выносящий судебный приговор, выступающий в защиту всего прекрасного и доброго; творец, борец, неподкупный, безудержный, вспыльчивый и великодушный человек. — Мы должны гордиться тем, что он один из нас, — объяснял Григ. — Он добрый гений нашей нации. Ноордраак, который, между прочим, был его родственником, написал наш гимн. А Бьёрнстьерна все те, кто любит Норвегию, должны каждый день воспевать в хвалебных гимнах.
Он еще долго не мог расстаться с этой важной и волнующей его темой. Он рассказывал о том, как познакомился с поэтом, как зарождалась их дружба, о том, как прекрасно с ним работать.
— Без него жизнь моя была бы беднее, это уж точно! — заключил он, и скачущая интонация его высокого и чистого голоса звучала очень трогательно на фоне такого торжественного тона.
— Но мы все говорим о Норвегии, то есть о моей жизни, потому что это одно и то же, — произнес Григ, — а мне бы так хотелось побольше узнать от вас о России, о таинственной и огромной России.
— Я с удовольствием вас слушаю, — сказал Чайковский. И тут он подумал, что описанная норвежцем жизнь со всеми наполняющими и формирующими ее событиями и обстоятельствами такая же чистая и освежающая, как взгляд ясных и задумчиво-спокойных глаз Эдварда Грига. Когда спустя полчаса профессор Бродский присоединился к ним за чашечкой черного кофе, речь зашла о Пушкине и Гоголе, о Толстом и Достоевском, чьи произведения в Норвегии знали и ценили. Григ сильно взволновался, когда узнал, что Петр Ильич был лично знаком с великим Толстым, неоднократно и подолгу с ним беседовал и один раз даже организовал концерт в его честь.
— Мне было не по себе от страха, когда я впервые с ним встретился, — рассказывал Чайковский благоговейно внимающей ему паре. — Я думал, что он — очень опасный человек: один раз на тебя посмотрит — и все о тебе знает, с первою взгляда распознает твою сущность и видит все твои недостатки. Но этот великий и опасный человек оказался очаровательным и вел себя непринужденно и приветливо. — Оба супруга с радостью восприняли его слова и, улыбаясь, одобрительно кивали. Они несколько призадумались, когда Петр Ильич стал неодобрительно высказываться в адрес автора «Войны и мира». — Он мне нынче нравится намного меньше, чем тогда, в незабываемые времена нашего первого знакомства. Что-то в нем затвердело и стало совсем жестким. Его человеколюбие приобрело какой-то догматический характер, в нем появилось нечто деспотическое, высокомерное, при всей его подчеркнутой доброте в нем есть какая-то несговорчивость, узколобость, граничащая с коварством, и это меня пугает. Мне кажется, что он не по-христиански смотрит на своих ближних свысока, потому что они не так набожны, как он сам. — На это Григи озабоченно закачали головами.
Потом говорили и о других русских писателях.
Вот речь дошла до Тургенева, поэтому в голосах их слышалась особая теплота и нежность. Они соревновались в поиске наиболее выразительного определения для описания человечности и чистоты, характеризующих его произведения и его личность. Они рассказывали друг другу истории, трогательные подробности его жизни.
— А вы знаете, что его тоже обвиняют в том, что он недостаточно русский, что он так называемый западник? — спросил Петр Ильич, в то время как к их столику приблизился Бродский.
— Я пригласил сюда нашего друга Бродского, — произнес Григ, слегка краснея, и Нина тоже смущенно улыбалась, как будто был преждевременно раскрыт безобидный, но несколько безнравственный заговор. — Я хотел вместе с ним представить вам свое новое произведение, если вы не против, дорогой Чайковский. Это скрипичная соната… совсем недавно законченная… Да, я посвятил ее немецкому художнику Францу фон Ленбаху… — Он говорил сбивчиво и торопливо, как будто извиняясь за то, что обременял присутствующих прослушиванием своей новой сонаты.
— Ну так это же чудесно!
Они играли в номере Чайковского, в небольшом салоне, отделенном дверью от смежной спальни.
— Этот бехштейновский рояль вполне приличный, — объяснил Петр Ильич. — Я, правда, на нем пока ничего не сочинил, но в этом только моя вина. — Он вместе с Ниной сел на диван под люстрой с длинной шелковой бахромой, которая, должно быть, служила для придания помещению более уютного вида.
Когда Григ стал пробовать на рояле первые аккорды, на его по-юношески мягком, застенчивом лице появилось серьезное, очень сосредоточенное, почти грозное выражение. С необузданной, своенравной резкостью запела скрипка. Чайковский слушал, склонив голову на вычурную, резную с позолотой спинку дивана, слегка приоткрыв рот, закинув ногу на ногу. В этом положении он просидел на протяжении всего выступления.