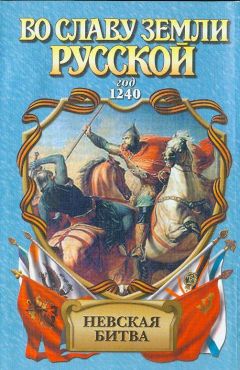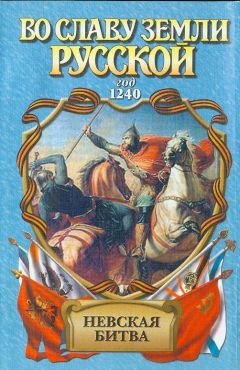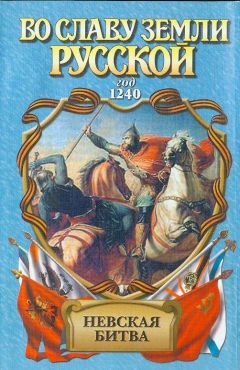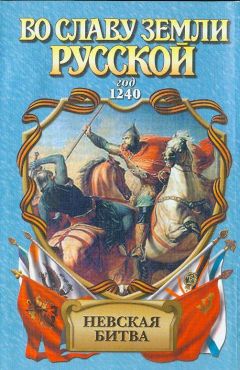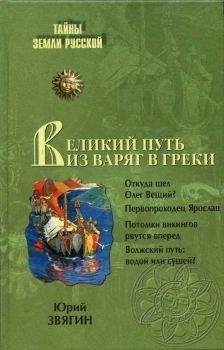Новокрещенный Филипп сильно уверовал в Бога, стал усерднейшим христианином, а перед Пасхой, во время горячей молитвы, он слышал снова голос, сказавший ему: «Аль не хочешь, чтобы брат твой лаял, иди и крести брата да обвенчай его с женой, Февронией христианкой, которая ныне в Торопце обретается».
На Пасху бывший Пельгуй явился в Торопец со своим лающим братом, которого должны были крестить, а затем и браковенчать с женой.
Обряд проходил в Георгиевском соборе, куда верующие русичи, Александр и все князья, а с ними и тевтоны, ежедневно приходили для воздаяния молитв и славословий воскресшему Христу. После окончания утренней службы епископ Меркурий изготовился принять оглашенного ингерманца в баптистерии, именуемом у русов крестилищем. Сюда же последовали не очень многие, в том числе и князь Александр, а с ним напросились и тевтонские рыцари, открывшись ему, что вскоре, быть может, тоже восприимут русское вероисповедание.
Крестильную купель украсили тремя горящими свечами. Все преисполнились благоговения. Ввели обуреваемого. Он был бледен и смотрел себе под ноги. Епископ возгласил благое слово, начался обряд. Покуда все шло хорошо, ектеньи и молитвы… но едва Меркурий стал совершать елеопомазание и только поднес ко лбу крещаемого кисточку, как тот вдруг поднял на него страдальческие глаза и громко залаял. Когда опустил глаза, лай медленно угас и прекратился.
Все так и вздрогнули. Епископ казался ничуть не оробевшим. Отставив до поры кисточку с елеем, он отдал какое-то приказание.
— Что он сказал? — спросил Августин фон Радшау у Кальтенвальда, знающего русскую речь.
— Велел принести какую-то воду, — пожал плечами тот. — Какую-то августную воду…
Принесли глиняный сосуд, епископ откупорил его и стал поливать на голову крещаемого прямо из горлышка. Ингерманец заметался, князь Александр и Пельгуй Филипп схватили его, а епископ продолжал обливать этою «августною» водой, обливаемый бился и лаял, но вдруг затих, и Августину фон Радшау, человеку вполне трезвомыслящему, померещилось, будто маленькая, обтрепанная и очень злая собачонка проскочила мимо него от ингерманца к дверям крестилища и там исчезла.
Все, что происходило дальше, родило в душе тевтона целую бурю восторгов. Ингерманец вдруг просветлел и, встав перед священником, покорно отдался елеопомазанию. Затем его ввели в глубокую купель и трижды погрузили в воду — «Во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь». И вид у крещаемого был в эти мгновения самый счастливый, какой только можно себе вообразить, а Августину захотелось быть крещаемым и погружаемым в крестильную купель.
А когда ингерманца, уже нареченного Ипатием, епископ стал миропомазывать, во всем крестилище стало будто еще светлее, и будто птицы захлопали крыльями, и все запели, и что самое удивительное, Августин вместе со всеми, по-русски:
— Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся, аллилуйя!
Трижды пропели, а ему казалось, что много раз. И откуда-то издалека долетело до него пение органа, слегка смутило душу и унеслось. А когда все закончилось, ему казалось, что чудо продолжится, и точно так же, как пел, он станет легко и свободно говорить по-русски. Увы, ничего подобного не произошло. Язык его не хотел ворочать незнаемые камни русских слов.
Весь день потом он, да и оба его соплеменника ходили под впечатлением чудес таинства святого Крещения. И решили, что в субботу Светлой седмицы, на которую было назначено обручение Александра, предшествующее браковенчанию, все трое перейдут в русское вероисповедание.
С самого утра субботы Александра рыдала. Так было положено перед обручением. С нею были подруги — Евпраксия, Пелагея и Мелания, а если проще — Апракса, Палаша и Малаша. Они пели печальную песню про то, что больше не бегать им со своею резвою подружкой, у которой теперь будет две косы, а у них останется по одной, покуда и их не сосватают. И княжне под эту песню плакалось еще лучше, а вообще-то, слез ей было не занимать, прежде всего потому, что все эти дни она сильно страдала. Все ее существо переполняли страстные желания поскорее стать женой прекрасного князя Александра Ярославича, так сильно переполняли, что плохо спалось по ночам и все время хотелось есть, но еда не успокаивала ее.
Светлая седмица к тому же выдалась до того весенняя, до того переполненная упоительными и волнующими запахами, что страдания юной княжны становились совсем уж невыносимыми. Она уже даже злилась на своего жениха за то, что он такой правильный и не может похитить ее. Недавно ей вслух читали повесть про Девгениево деяние, и вот какая родилась у нее тут, в Торопце, дерзновенная мечта — написать Александру грамоту наподобие той, которую сочинила Девгению влюбленная Стратиговна: «Аще имаши любовь ко мне велику, то ныне мя исхыти!» Далее мечта княжны Александры обретала некие расплывчатые очертания, и, тем не менее, это волновало ее куда больше, чем ежели бы у нее было что-то осознанное и продуманное. Скачет конь, на коне Александр везет ее, похищенную, неведомо куда, через дремучий лес, по бескрайним полям, отбивается от врагов и преследователей, все мелькает, конь храпит… Хорошо!..
Но никакой грамоты Брячиславна своему жениху так и не отправила, и это ее ужасно огорчало, что не будет никакого умыкания и до вожделенного часа их сопряжения еще ох как далеко! Даже сегодня предстоит лишь обручение, а венчание и свадьба — только завтра, потому что до окончания Светлой седмицы никаких свадеб не совершается, всякое супружество воспрещено.
— Ты, Саночка, и впрямь так плачешь, будто ни в какое замужество не хочешь, а говорила, что тебе Ярославич смерть до чего люб, — закончив песню, сказала Малаша.
— Так она оттого и рыдает, что он ей люб, а свадьба токмо завтра, — рассмеялась сметливая Апракса. — Что? Попала я?
— Попала… — вытираясь полотняной ширинкою, проворчала княжна. — Спойте теперь про Алконоста[29]. Запевай, Апракса!
И Евпраксия Дмитриевна затянула новую песню:
К Алконосту стеркови[30] прилетали… Малаша и Палаша подхватили:
С самого Ксанфона[31] — реки. Они вранов и галиц одолели…
Но дальше они спеть не смогли, потому что за дверью раздался шум, встревоживший Александру и ее подружек так, что все четверо разом вскочили на ноги. Шум все нарастал, и вот уж дверь распахнулась и торжественный отец возник на пороге:
— Жених, Саночка! С подарками к обручению!.. Он тотчас встал лицом к двери в ожидании, но не утерпел и, повернувшись вполоборота, похвастал:
— Каких жеребцов мне привел в подарок!.. Снова воззрился на дверь и, поскольку гости где-то замешкались, еще раз похвалился:
— А седла на них золоченые, узорные, эх!.. А уздечки…
Тут пред ним появились сам великий князь Ярослав Всеволодович и двое его братьев — Борис и Глеб, все трое в нарядных ферязях из наилучшего аксамита, в червленых сапожках да в шапках, отороченных соболем и горностаем. Лица у них были наигранно озабоченные. Первым заговорил Глеб Всеволодович:
— Исполати, хозяева! Долгая лета и здравия!
— И вам здравствовать до второго пришествия! — весело отвечал князь Полоцкий. — Что невеселы, гости дорогие?
— Лошадушка у нас потерялась, не прискакала ли к вам? — спросил старший из двух Александровых стрыев, Борис.
— Слышали звон копыт, да мимо пролетела пропажа ваша, — развел руками Брячислав.
— Так у нас еще и лодушка отвязалась и по реке уплыла, — продолжал Глеб. — Не заплыла ли в ваши пристани?
— Слышали плеск, да мимо проплыла вторая пропажа ваша, — улыбнулся Брячислав.
— Ну, стало быть, прощайте, — сказал Борис, все трое поклонились, повернулись, чтобы уходить, но тут Ярослав, словно бы невзначай, обернулся и спросил:
— А еще у нас ладушка потерялась, убежала своими сахарными ножками и не можем сыскать. Не у вас ли в палатах прячется княжна молодая, нашему князю суженая?
— А как звать-то ее?
— Василисой Микулишной.
— Несть такой.
— Вассой Патрикеевной.
— И такой не знаем.
— Александрой Брячиславной.
— Я это! — не выдержав этого занудного торга, подскочила княжна, развеселив всех так, что громкий смех огласил горницу.
— Так вот же и князь твой за тобой явился, всюду обыскался! — провозгласил Ярослав, и тут пред нею вырос он, высоченный, ростом выше отца и стрыев своих, низко наклонился, входя в невысокую дверь, а сам весь светится, глаза, как драгоценные исмарагды[32], русые борода и усы гладко причесаны…
— Здравствуй, ладушка, Александра Брячиславна! Вот тебе от меня дары…
И протягивает ей на одной руке вольный ящик из черно-зеленого медного камня[33], изукрашенный золотом, а на другой руке — серебряное блюдо с синими винными ягодами и хлопушей[34] с наборной бисерной рукояткой.