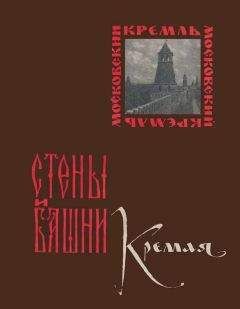Славу Федотов получил, но он не имел прочного успеха. Посмотрите, как мрачнеет художник в «Кончине Фидельки».
Федотов в 1844 году рисовал себя еще молодого, как человека с рваными локтями. Через два года картина изменилась: художник изображен очень старым, ему холодно, зубы его подвязаны; рисует он вывеску для мелочной лавочки, а дочка его целуется с каким-то купчиком в дверях, получая от него в то же время ожерелье; старший сын принес краденую вещь, ребенок кричит на руках матери, другой хватает мать за юбку, служанка ломает раму для подтопки, а дворник вынимает вьюшки из печи. На стенах висят непроданные картины.
Художник не виноват ни в чем: он не нарушил никаких законов и много работал, но он гибнет, потому что не владеет ни землей, ни фабрикой.
Хотя не в красном камзоле, да на воле.[30]
П. А. Федотов
Солнце не то зашло, не то растаяло: белая ночь. Федотов шел к Неве по пустынной линии Васильевского острова. Сфинксы на набережной, не моргая, смотрели друг на друга; полированный камень их тел покрыт сыростью ночи, как по́том. Высокий купол Исаакиевского собора слабо желтел в небе. Слева, над низкой стеной крепости, поднималась высокая игла Петропавловского собора. Ангел на шпиле нагнулся, рассматривая город. Нева, с обеих сторон заключенная в набережные, текла к холодному морю, чуть дымясь туманом. Слышна дальняя музыка.
Заря над городом – широким розовым венком; розовая Нева отражала колонны, мосты и красные занавески в доме графини Лаваль. Там танцевали, занавески были освещены. Тут было и красное, и голубое, и серебряное.
– Трудное сочетание, – сказал кто-то рядом. – И посмотрите – не пестрит. Такую вещь мог бы нарисовать Боровиковский. Он так сделал портрет графа Васильева: голубая лента на красном мундире и серебро звезд.
– Природа не пестрит никогда, а художник редко достигает согласия красок, – ответил Федотов, поворачиваясь.
Рядом с ним стоял без шапки человек лет тридцати, широкоплечий, широкий в талии, но отнюдь не полный. Лицо круглое, окаймленное бакенбардами; волосы острижены по-казацки и зачесаны назад; не блондин и не брюнет, но ближе к брюнету; глаза небольшие и так же, как общая повадка, выражают энергию.
– Разве не узнаете меня, господин Федотов? – сказал человек.
– Узнаю: вы Шевченко Тарас Григорьевич.
– Вы акварель «Освящение знамен» кончили, Павел Андреевич? Ее Карл Павлович хвалил.
– Не кончил. Разонравилось мне как-то…
– Карл Павлович тоже картин не кончает. Так легко начинает, набрасывает… Кажется, уже все сделано, а не может кончить.
– Устает, – сказал Федотов.
– Нет, может быть, веру теряет… Вы знаете, я очень люблю красные занавески.
– Они на воде очень красивые.
– Красный – любимый цвет Брюллова. Когда меня, крепостного маляра, Сошенко привел к Брюллову, смотрю я – диван красный, халат красный, занавесочки красные. Запомнил я эту комнату: в ней я заново родился.
– Много тогда об этом в академии говорили. Выкупил вас Брюллов. Вот кто меня с военной службы выкупит! Как вы думаете, уходить мне из полка?
– Уходить.
– Дают сто рублей ассигнациями в месяц на жизнь.
– Немного!.. Рубля серебром в день мало.
– У меня время потеряно, мне уже тридцать лет. Разве можно начать учиться! Выйдет ли такой скок в бок – вот она, штука какая!
– Руку развить можно.
– Не в руке дело, компас должен быть в глазу, а не в руке.
– Вы какого художника любите? Хогарта?
– Нет.
– Разлюбили?
– Много в его картине центров и нет подчиненности; рассказывать все надо по кускам: как будто много петухов парами, не обращая внимания на другие пары, дерутся во дворе. Интересно, но мелко, гоголевской широты нет.
– Это вы хорошо сказали и неожиданно. Молодые художники, говорит Брюллов, любят сложные построения.
– Я разлюбил эту сложность. Люблю человека.
– Может быть, только портреты рисовать?
– Нет, надо картины рисовать, но только надо в картине проложить для зрителя путь, чтобы ее смотрели медленно, и не надо, чтобы это была аллегория.
Красные занавески погасли. От берега отплыл зеленый высоконосый ялик. На ялике ехали чиновники, нахохлившиеся от утренней свежести.
Искусство постигается так медленно, что для систематизации известных принципов, которые, по существу, управляют каждой частью искусства, нужна целая жизнь.[31]
Э. Делакруа
Брюллов принял Федотова в синем парчовом халате, лежа на диване. Кругом валялись записные книжки с чертежами, карикатуры, листы с набросками; у стен стояли незаконченные картины.
На мольберте – огромный холст «Осада Пскова». В стороне от холста – гипсовые слепки.
Мастерская освещалась большим окном, свет от которого падал прямо на неоконченную картину. На картине – небо, местами закрытое дымом взрыва, ниже – стена, в стене – пролом, из стены выходят люди; под Шуйским пала серая лошадь в богатой сбруе; она лежит, повернув голову к своему седоку; Шуйский поднимает руки к небу. В середине картины едет монах на пегой деревенской лошадке, а за ним с топорами и вилами валит народ. В левой стороне картины девушка поит из ведра утомленных воинов.
Федотов, поставив свои картины перед Брюлловым, осмотрелся кругом: красная комната завалена кусками парчи, знаменами, оружием; скромная сепия Федотова казалась среди всей этой пестроты куском пожелтевшей штукатурки.
Вокруг толпились картины; быстрой и верной рукой на них были набросаны контуры, подсказанные статуями; видно было, как оживали эти контуры.
Брюллов сам казался расписанной статуей, превратившейся в человека, но еще сохранившей семейное сходство со славным племенем, населяющим музеи.
Брюллов произнес ласково:
– Мне говорил о вас Каракалпаков. Он мог бы стать большим художником, а обратился в горького неудачника… Он тоже потерял время.
– Карл Павлович, он отдал другу свое время и свою удачу!
– Всем кажется, что удача живописца у меня в руках, что я ее держу, как карандаш, как кисть, но рука моя немеет… Впрочем, я верю в роспись Исаакиевского собора… Посмотрим, что вы принесли… Неплохо, совсем неплохо! Вы хорошо нашли центр рисунка. Этот художник, который должен увековечить для мира Фидельку, хорошо посажен, у него правильно опущено плечо. Видно, как художнику не хочется рисовать, и то, что вы сделали его похожим на себя, интересно. Но зачем эта хогартовская сложность? Все это не нужно и слишком говорливо.
– Я думаю так же, – ответил Федотов. – Хочу теперь работать иначе, выйти на пенсию и заняться специально рисованием.
– Какая пенсия?
– Двадцать восемь рублей серебром.
Брюллов ответил серьезно:
– Мой прадед Георгий Брюлло почти сто лет назад приехал со своими сыновьями в Россию и начал работать на фарфоровом заводе. Его сын, мой дед, был скульптор, мой отец – резчик и дослужился до звания академика. Я родился слабым ребенком, но прежде научился держать карандаш, а потом уже начал ходить.
– Не все так, – ответил Федотов, – есть исключения: Тарас Григорьевич Шевченко взрослым человеком стал художником.
– Тарас, – ответил Брюллов, – натура необыкновенная, и все же малюет он с детства. Обычно же овладевание искусством медленно, и вершин достигает художник, за которым стоят поколения культуры. Сильвестр Щедрин, смерть которого потеря для всего искусства, – сын скульптора.
– До того, как стать скульптором, его отец был солдатом.
– Отец был очень одарен, и дядя был художником, и сам Сильвестр Федосеевич открыл для нас новые тайны потому, что начал учиться с детства.
– Но не все же так!
– Вам нравится, вероятно, статуя Пименова? Но его отец был тоже скульптором. По дороге от меня к себе посмотрите его работы перед колоннадой Горного института. Живописи, музыке и цирковому искусству надо учиться с детства, а еще лучше – наследовать это искусство. Когда я пишу, то мне читают, а я уже не думаю: моя рука идет сама. Но посмотрите, сколько здесь незаконченного! Особенно трудно, когда отойдешь и от портрета, и от античного образца… Этот Псков мучит меня. Легче было изобразить защиту Рима от галлов.
– Что же мне делать?
– Вам поздно приобретать механизм искусства. Что вы сейчас рисуете у нас в академии?
– Статую Фавна.
– Превосходный антик! Копируйте больше! Познакомьтесь с умными людьми. Шевченко вас введет в дом Тарновских.
Федотов ушел. Он долго думал: очевидно, нельзя ссориться с великим князем; очевидно, нельзя дружить с искусством.
Он подал рапорт, что остается на военной службе, сохраняя за собой право на отставку.
Михаил Павлович остался доволен. Федотову дали тысячу рублей на издержки по рисованию и за усердную службу – более чем годовой оклад жалованья.
Акварель «Освящение знамен» Федотов не кончил; он рисовал карандашом, делал наброски людей садящихся, смеющихся. Рисовал самого себя в зеркале, учился английскому языку. Работал до ночи. Утром обливался холодной водой и шел гулять по бесконечным мосткам Васильевского острова.