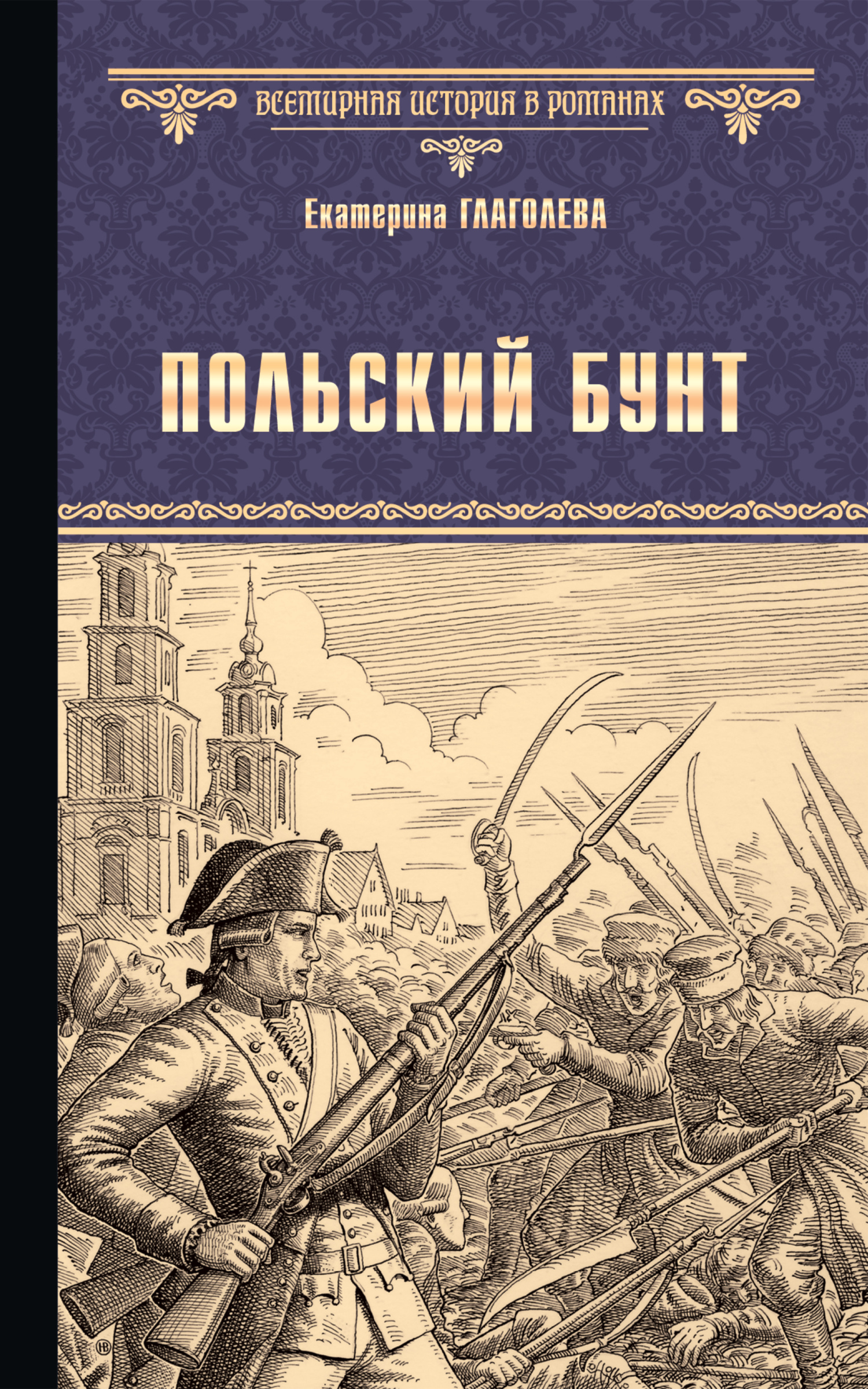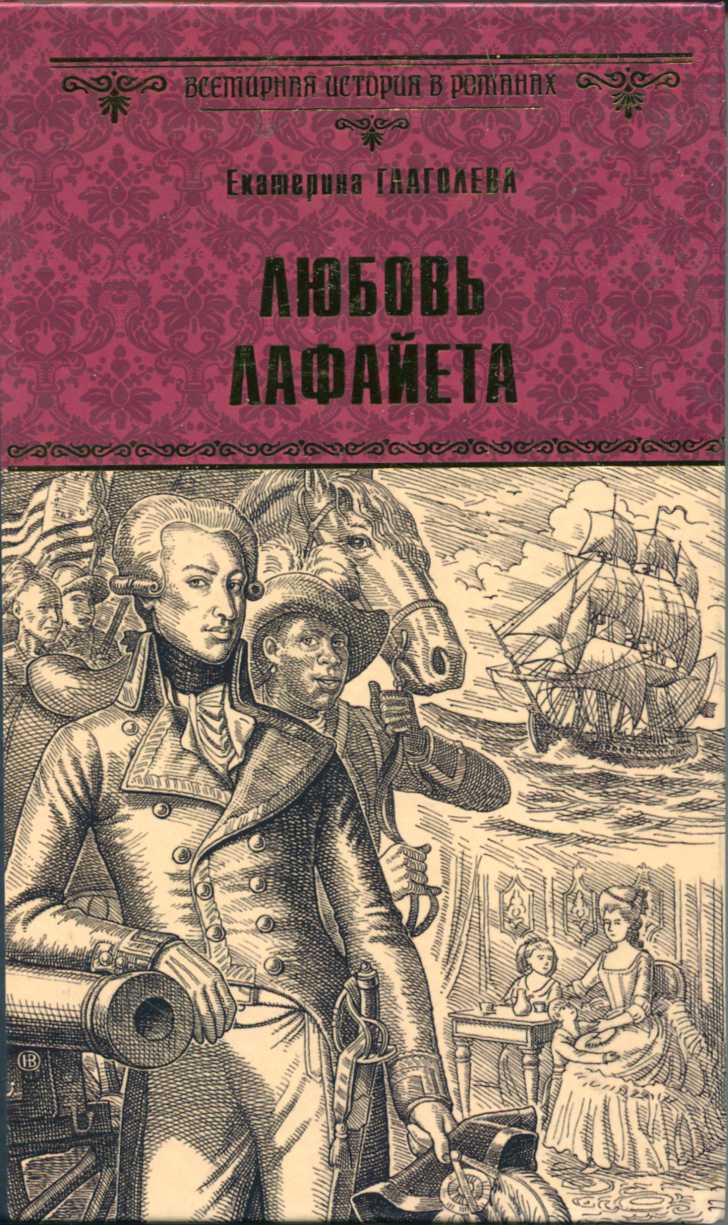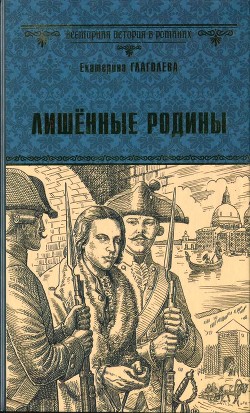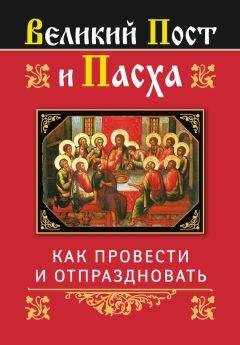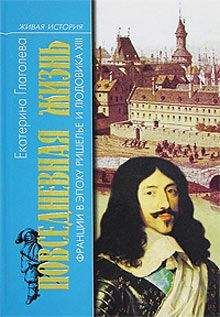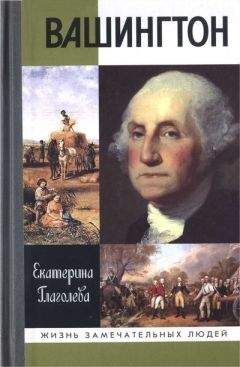и приносят слишком малый доход королю, обогащая лишь тех, кто ими распоряжается. Возьмете ли вы управление ими на себя? Занятие, вполне вас достойное.
– Благодарю за предложение, но не могу его принять: я не имею желания обогащаться, управляя имениями, которые мне не принадлежат, поскольку обладаю собственными значительными владениями и не стану жертвовать ради этого своим отдыхом и спокойствием.
Очень неплохо было сказано. Очень неплохо.
– Хорошо. Тогда возьмите на себя опеку над юным князем Домиником Радзивиллом. Ему идет шестой год, ему необходим присмотр со стороны человека честного и бескорыстного. Вы родственник этого семейства; состояние Радзивиллов огромно, но дела их расстроены.
Опекуном Доминика Иеронима прежде был его дядя Мацей Радзивилл, супруг Эльжбеты Ходкевич – кузины Огинского. Мальчик являлся Несвижским ординатом, и с началом войны Мацей от его имени предоставил в распоряжение литовских войск все принадлежащие ему замки, арсеналы и созванное в Несвиже ополчение. «Прежде Отчизну, а после уж дом Радзивиллов видеть желаю счастливым», – это письмо Мацея Войсковой комиссии тогда специально отпечатали в типографии для распространения. Мацей поэт… И Михал всегда завидовал ему как музыканту: он написал целую оперу… После победы тарговичан Мацея лишили опеки над племянником.
– Я не беру под свою опеку никого, кроме вдов и сирот, не имеющих состояния, – отчеканил Огинский. – Князь Доминик, слава Богу, имеет мать и родственников, носящих ту же фамилию. Чем больше состояние подопечного, тем больше ответственность опекуна; я не желаю брать ее на себя.
По красивому лицу Зубова скользнула тень досады.
– В таком случае примите должность в польском правительстве – любую, по своему выбору. Причин для отказа у вас быть не может. Даю вам несколько дней на раздумье и жду вашего ответа.
На этих словах Зубов стремительно вышел в двери, не дав Огинскому возразить.
Карету встряхнуло так, что у Огинского клацнули зубы, а горничная Изабеллы, сидевшая напротив, выронила корзинку и вскрикнула. Захотелось высунуться в окошко и крикнуть кучеру: «Пся крев, разуй глаза, быдляк! Совсем не смотришь, куда едешь?» Но он сдержался. Что кучер может сделать? Такие дороги. И другого пути нет: лес кругом.
Тогда, в Петербурге, перед ним распахнули дверцы кибитки и заставили решать: садиться в нее или отказаться. Он считал, что выбора нет: не оставаться же одному в лесу, среди волков, с голыми руками! Он забрался внутрь, дверцы захлопнулись, и возница хлестнул лошадей…
Он хотел отказаться от должности подскарбия великого литовского [15], как только вернулся в Варшаву. Но хитрая лиса Яков Сиверс, новый российский посланник, к тому времени уже выманил короля в Гродно, а тайное соглашение между Россией и Пруссией о втором разделе Польши подготовили еще в январе, когда Михал был в Петербурге. Королю Огинский отказать не мог; седьмого мая его официально утвердили в должности. Люди циничные и беспринципные подавляют людей совестливых и тонко чувствующих…
Проклятая кибитка неслась дальше; остановить ее и сойти было нельзя. Огинский участвовал в Гродненском сейме, при проведении которого были попраны все законы Польши. Но выбора им не оставили, ведь так? Заседания проходили за закрытыми дверями, у дверей стояли русские солдаты. Нескольких строптивцев арестовали, у других отобрали имущество. Сейм наивно просил «великодушную государыню» оградить Речь Посполитую от притязаний прусского короля; Шимон Коссаковский отправился в Петербург… Что толку: Екатерина была автором пьесы, а Сиверсу поручили довести спектакль до конца. Места для публики, изгнанной из зала, заняли русские офицеры; рядом с троном сел генерал Раутенфельд – охранять Станислава Августа, на жизнь которого готовится покушение… Поняв, что кричать бесполезно, депутаты замолчали; их молчание расценили как знак согласия. Две хищных птицы, договорившись между собой, разодрали тело несчастной Польши. Все распоряжения Тарговицкой конфедерации были отменены – теперь она стала не нужна. Екатерина, защитница поляков, «разгневалась» на Сиверса за «упущения» и отозвала его в Петербург, заменив Игельстрёмом, – это тоже было частью пьесы…
Честь погибла, имущество утрачено, зато кибитка остановилась, и Михал поспешил из нее выйти: возвращаясь из Гродно вместе с королем через свое имение Соколув-Подляский, Огинский признался ему, что намерен покинуть Польшу. Они проговорили тогда всю ночь, но удержать Огинского король не смог… У Станислава Августа выбора не было: он снова сел в ту же кибитку и поехал дальше. А Огинский… Думал, что пойдет своим путем, а на этом пути его сшибло бешеной колесницей и потащило по бездорожью.
…Грубый окрик, перебранка; карета замерла. Горничная испуганно смотрела на пана: разбойники? Изабелла, обложенная подушками, закрыла глаза – то ли спала, то ли сомлела… Громкие голоса послышались возле самой дверцы, которая вдруг с треском распахнулась:
– Кто тут есть? Выходи!
Тонкие веки Изабеллы затрепетали. Сделав знак горничной, чтобы позаботилась о пани, Огинский выбрался из кареты и на мгновение зажмурился от яркого света.
Передних лошадей держал под уздцы солдат; в отдалении, на развилке дорог, маячили два конника. Другой солдат пытался ухватить за плечо кучера, который не давался и отругивался. Загораживая их собой, у самой дверцы стоял плотный детина в синем кунтуше на желтой подкладке, затянутый в пояс с кистями, с вислыми усами и саблей на боку. При виде Огинского – в английском сюртуке, длинных серых панталонах и в высокой шляпе, – он удивленно поднял правую бровь.
– Кто такие? Куда следуете?
Огинский молча смерил его взглядом.
– С кем имею честь? – осведомился он.
– Ян Гуща, – с неким вызовом ответил детина. – Командир пограничного разъезда. Так куда путь держите?
– Я Михал Клеофас Огинский, – раздельно проговорил граф. – Следую в родовое имение под Варшавой, сопровождая больную жену. И я вам буду очень обязан, если вы пропустите нас, не отнимая у нас времени.
Детина осклабился и подбоченился.
– Ах, сам пан подскарбий нам честь оказал!
И тут же сменил ёрнический тон на суровый:
– Паспорт.
– Что?
– Паспорт на выезд из княжества Литовского. Или вы уже по-польски понимать разучились?
Огинский почувствовал, как закипает в нем гнев.
– Я Огинский, – повторил он, едва сдерживаясь и глядя прямо в наглые глаза. – Спросите любого; тот не поляк, кто не знает моего имени. Еду в имение своего дяди. Какой еще паспорт, холера ясна!
– Ну конечно, – усмехнулся Гуща. – Вам-то наших имен разве упомнить! Выгнали с должности, оставили без куска хлеба – и позабыли!
Огинский вгляделся в его лицо, но никак не мог признать.
– Я вас уволил? Когда? Вы по какому ведомству служили?
– По таможенному, в Толочине… Два месяца назад вы инспекцию делали… – Глаза Гущи сузились. – К пруссакам утекаешь?
Невольный страх пробежался холодными пальцами по хребту. Перед глазами мелькнуло видение виселицы с