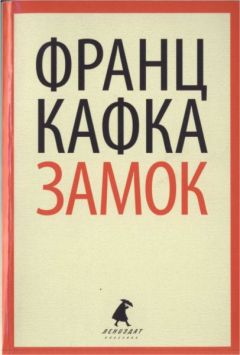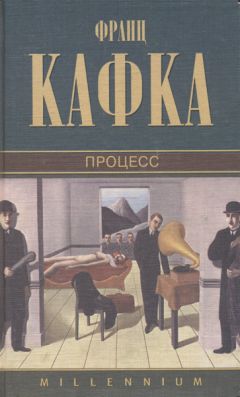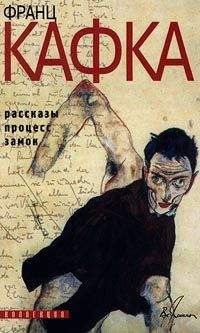как красная тряпка на быка каждый раз, когда он открывал рот, его всесилие, с которым они никогда не позволяли себе бороться, сменились крайней слабостью. Да и потом, может, он прав в своем желании отправиться в Кирлинг? Может, действительно лучше поехать к Францу вместо того, чтобы томиться в ожидании вестей от него?
Выйдя из кухни, Оттла возвращается к себе в комнату, садится напротив шкафа и открывает его ящичек, зная, что справа, в самой глубине, лежат стопкой несколько дюжин рукописных страниц – переписанное ее собственной рукой длинное письмо брата отцу, из которого ей порой нравится пробежать глазами то один, то другой отрывок, ведь эти строки отдаются в ее сердце хрупкой душой и голосом любимого брата. В такие минуты она будто снова встречается с Францем, как в те далекие времена, когда они вместе ужинали в кафе «Арко». Читая это письмо, Оттла часто плачет, как плачут в синагоге, когда слушают каддиш. Это пространное послание отцу и звучит протяжным, горестным каддишем – нескончаемым и прекрасным, как заупокойная по отношениям между сыном и отцом, приказавшим долго жить. Оно – алтарь задумчивости и благоговейности, алтарь воспоминаний. Каждая фраза в нем как молитва, как ода чуду, которого они так и не дождались, и ода жизни, которая так и не состоялась, хотя была предначертана или как минимум желанна. Открывая этот ящичек, она вновь находит справа, в самой его глубине, это сокровище жизни, куда более волнительное, чем все детские воспоминания, вместе взятые. И каждый раз, погружаясь в чтение, чувствует, как от звучания этих слов по щекам катятся слезы. Чернила, которыми их написали, омыли душу ее брата, напитались его мукой и наполнились его страданием. На свете нет таких терзаний, которые потрясали бы ее больше, чем эта боль, ничто так не сближает ее с братом, чем ворох этих страниц.
Письмо Франц написал пять лет назад. Оно предназначалось отцу, хотя к адресату так и не попало. Оттла переписала его, корпя долгими часами. Стоило прочесть первые строки, как голос брата в ее голове зазвучал с такой ясностью, будто он сидел напротив нее. Она услышала его как в те далекие времена, когда он, еще подросток, усаживал сестер в комнате и читал сочиненные им самим истории. Каждый эпизод в этом письме воскрешал в памяти тот или иной фрагмент их жизни, перед глазами Оттлы вновь пробегали былые дни, она опять чувствовала себя зрительницей очередной сцены из сказания о роде Кафок. Однако каждая из этих картин виделась через призму дочерней горечи, искажавшей события, превращавшей все в театр теней, в серию дуэлей, в которых отец всегда выходил победителем, а сын терпел поражение, не оставлявшее ему ни малейшей надежды. Она аккуратно взяла стопку страниц, уселась на кровать и стала читать.
Мой дорогой отец!
Недавно ты спросил меня, почему я делаю вид, что боюсь тебя. Как это всегда бывает, я не смог ничего тебе на это ответить, частью как раз из-за страха, который ты мне внушаешь, частью оттого, что психология этого страха содержит в себе слишком много деталей, чтобы ее можно было хоть как-то внятно изложить вслух. И если в эту минуту я пытаюсь донести до тебя на письме мои мысли, то ответ все равно нельзя считать сколь-нибудь исчерпывающим, ведь даже сейчас, когда из-под пера выходят эти строки, моим отношениям с тобой мешает как сам страх, так и его последствия. К тому же сама тема настолько огромна, что выходит за рамки моего понимания, да и память моя над ней не властна.
Что касается тебя, то в твоих глазах все выглядело предельно просто. Тебе наши реалии виделись примерно так: ты упорно трудился от рассвета до заката и жертвовал чем только мог ради детей, особенно ради меня; как следствие, я «жил знатной жизнью», свободно мог изучать все, что хотел, был избавлен от материальных забот, а раз так, то вообще не знал, что такое проблемы. Взамен ты не требовал никакой признательности, зная, что представляет собой «благодарность детей», и лишь ждал от меня хоть какой-то предупредительности, хоть намека на симпатию. Но вместо этого я постоянно от тебя убегал и искал убежища с моими книгами, с безумными друзьями и экстравагантными идеями. Никогда не говорил с тобой искренне, как в храме, не садился рядом с тобой, не навещал тебя во Франценсбаде, в целом был напрочь лишен духа родства с семьей, не проявлял интереса ни к твоей торговле, ни вообще к чему-либо, что представляет для тебя интерес. Да при этом еще поддерживал Оттлу в ее упрямстве, хотя ради тебя ни разу даже пальцем не пошевелил…
Она отложила страницу. Нет, плакать не хочется. Плакать – значит навлекать на себя беду. Интересно, а среди бесчисленных писем брата было хоть одно, предназначенное не ему самому, а кому-то другому? Может, это просто монологи, которые он вообще мог бы никогда и никому не отправлять? Полученные от него послания она любила так же, как написанные им истории, которые он когда-то читал сестрам. Но если там выдумывал вымышленных героев, то здесь они были настоящими. Некоторые из них вращались вокруг фигуры отца, превращали его в насмешку, отдавали поражением слабого, проигрышем сломленных напрочь сыновей, выражали его манеру противостоять, его модель существования наперекор воле отца. Что же до нее, то в ее распоряжении имелись другие инструменты сопротивления и другие механизмы выживания; давать отпор ей удавалось благодаря дерзости и силе, которых у брата не было и в помине, – наверняка доставшись в наследство от отца, эти качества позволяли ей противиться его собственным дерзости и силе. Нет, Герман Кафка отнюдь не был дьяволом во плоти, просто он, как все отцы, был одержим и жаждал держать семью в узде, как и все мужчины (за исключением ее брата, которому отцом уже никогда не быть). Герман Кафка совсем не был чудовищем и, подобно всем мужчинам, вне всяких сомнений, лишь воплощал дома мечты о войнах, сражениях и могуществе; как хозяин дома он верховным владыкой распоряжался жизнью жены, троих дочерей и сына где и как только можно. Но разве не все отцы верховодят сыновьями перед тем, как отправить их воевать? Может, первейшая причина всех войн сводится в аккурат к их жажде воплотить мечту о вновь обретенной власти над сыновьями, в тот самый час, когда те поднимают голову и готовы бороться, перенимая факел господства? Их отпрыски под звуки фанфар отправляются воевать и с ликующим, воинственным