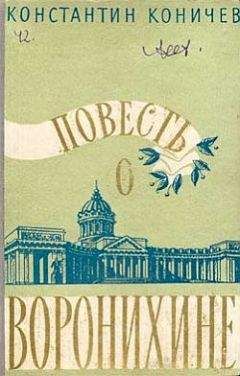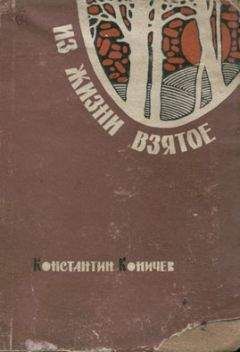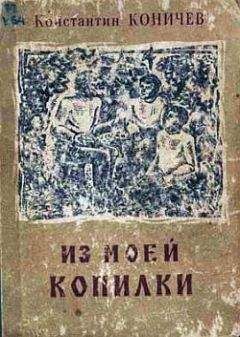– Нет, отче, в скоте нужды не имею, а в прелюбодеянии грешен, отче, грешен. Потаенно от супруги своей с девкой-вогулкой грешил, двух деток незаконных прижил. Дочка во младенчестве преставилась, сынок же, при крещении Андреем нареченный, жив и вместе с той девкой-вогулкой под присмотром у дворового человека здравствует…
– Да простит господь прегрешения твои, – молвил протопоп и продолжал: – Чем же, хитростью какою лукавый бес на блуд совратил тебя?
– Красотою, отче. Красотою отменною, коей сам господь возвеличил ту простую, из диких вогульских мест девку…
– Крещеная она? Лет ей от роду сколько? – Протопоп чуть понизил голос и тоном беспристрастия, приличествующим сану, спросил: – По доброй воле ее или по насилию господскому грешил ты с нею?
– Крещеная, отче, Марфой звать. Имя неказистое, а по красоте и дородности тела самой Магдалине не уступит. Лета ее совершенные, зрелые… – Подумав и привстав с коленей, барон сказал смиренно: – Насилью не поддавалась, отче… Другим взял: матери ее дом построить велел… Девке той казны отвалил на воспитание дитяти и нарядами не обидел… А подрастет дитя, к себе возьму, в люди выведу, ибо обличив его с моим зело сходственно.
– Похвальна доброта твоя. – сказал протопоп, убирая с головы барона конец епитрахили, пропахшей ладаном. – Ступай с миром, прощаются и отпускаются грехи твои… А завтра, за обедней, к причастью подойти не позабудь…
Барон встал, перекрестился и, как подобало, поцеловал серебряный оклад евангелия, лежавшего на аналое. Выйдя из собора, он обернулся, глянул на полукружия фресок, что размещены снаружи, снова перекрестился и направился к древним дедовским палатам, чтобы провести там ночь, а завтра опять продолжать путь к Санкт-Петербургу.
В изрядном веселии провел ту ночь барон Александр Николаевич. Были приглашены на ужин протопоп соборный, настоятель Введенского монастыря, управитель солеварен и градоуправитель сольвычегодский. На длинном березовом столе, покрытом шитой бисером и жемчугом скатертью, была в изобилии расставлена великопостная, православным дозволенная пища: рыжички мелкие с земляными яблоками, брусника квашеная с сахаром, морошка моченая, стерлядь двинская, нельма сухонская, налимья печень, икра с чесноком и на постном масле пышные колобки пшеничные. Была и другая закуска к увеселительным напиткам, наполнявшим позлащенные чаши усольской эмали, медной чеканки ковши, братины и кувшины.
Захмелели гости, захмелел и хозяин. Протопоп, сидевший рядом с бароном, прищурился не без хитрости и лукавства и промолвил:
– Не надлежало бы между исповедью и причастием такое угощение. Ну, да господь и не такие грехи прощает. Еще по единой, во здравие путешествующих…
Александр Николаевич Строганов вытер вспотевшее лицо, расстегнул шелковую рубаху. Из-за ворота вылез державшийся на дорогой цепочке золотой крестик с распятым Христом, а рядом виднелась перламутровая в золотой оправе ладанка – добрая памятка о приятно прожитых днях.
Протопоп первый приметил ладанку и, ткнув в нее перстом, спросил:
– Что сие укрыто от очей моих?
Барон раскрыл ладанку, внутри которой размером с целковый серебряный на одной створке эмалью была изображена женщина прелестной красоты, а на другой створке – малое дитя с распростертыми руками. Над головами их были кружочки – ореолы святости.
– Владычица с предвечным младенцем. – Протопоп с изумлением разглядывал внутренность ладанки. – Зело достойно для панагии архиерейской, не токмо для ладанки. Чья работа и сколько плачено? – спросил он барона, не выпуская из рук сокровища.
– Делал добрый мастер живописи Гаврюха Юшков, что в Пыскарском монастыре учит молодых людей художествам. За поделку сто рублев дано. Только недогадлив ты, отец протопоп, не богоматерь это… а она самая, пермяцкая вогулка Марфа, Чероева дочь. А это мой Андрейко. Глянь на обличие младенца, не сходственно ли с моим?
– Сходственно! Воистину сын отца своего! – невоздержно заметил настоятель Введенского монастыря, тоже склонившийся над ладанкой.
– Прекрасна! Прекрасна! – восторгался градоуправитель, прищелкивая языком.
Барон высвободил из рук протопопа ладанку, захлопнул ее, словно табакерку, и водворил за ворот рубахи.
– Однако греховно девку-вогулку под видом богородицы с сиянием изображать. Да и незаконнорожденного младенца тако же. Кощунством такой грех нарицается, – с нарочитой строгостью упрекнул протопоп хозяина. Но в голосе его уже не было строгости.
– Нет, отче, не кощунства ради придумано так, а ради соблюдения тайны. Скажем, не подобает знать об этом моей законной супруге и ее родственникам…
– Хитрец, ваше сиятельство!
– А хороша! – не унимался градоуправитель. – Ох, хороша! Хоть и вогулка.
– Еще по единой! – голосисто, как в церкви, возвестил протопоп. – За чистое покаяние барона Александра Николаевича, за всепрощение всех его прегрешений, всякому человеку присущих…
– Аминь! – заключил Строганов и, подняв позлащенный бокал, залпом выпил крепкое хлебное вино, настоенное на землянике.
По окончании трапезы протопоп и настоятель спели, взирая на образа:
– Сподоби, господи, во все дни живота нашего без греха сохранитися… На тя, господи, уповахом, да не постыдимся во веки… – И разошлись по домам.
Утром барон Строганов, разбуженный колокольным звоном всех сольвычегодских церквей, посмотрел на часы и быстро стал одеваться. Отстояв обедню при полном свечном и лампадном свете и причастившись ради приличия у всех молящихся на виду, он приказал запрягать лошадей. По точному исчислению, согласно карманному месяцеслову, до Санкт-Петербурга от Соли-Вычегодской санным путем оставалось еще одна тысяча триста и тридцать девять верст. Надо было поспевать, пока по льду северных рек стоял прямоезжий зимний тракт.
В ДАЛЬНЕЙ ВОТЧИНЕ У СОЛИ-КАМСКОЙ
До отъезда в Санкт-Петербург Александр Николаевич Строганов долгое время хозяйничал в обширных вотчинах у Соли-Камской. Земли у Строгановых было столько, что они и сами не знали в точности размеров своих владений. Добыча ходового товара – соли – достигла такого размаха, что был дан указ о запрещении Строгановым вываривать свыше двух миллионов пудов соли в год, дабы богатством своим не превзошли самое государство. Огромные участки земель в сотни тысяч десятин они продавали крупным промышленникам – Демидовым, Всеволожским, Лазаревым и другим, искавшим богатой наживы в Приуралье у Соли-Камской, в Новом Усолье, Дедюхине и прочих уголках пермской земли.
Барон Александр Николаевич исправно управлял всеми делами, держал в страхе и повиновении десятки тысяч людей, работавших на строгановских варницах и заводах. Однако нередко тихие и кроткие, казалось бы, бессловесные мужики, выведенные тяжкой неволей и нуждой из терпения, вступали в раздоры с приказчиками барона и, избегая нещадной кары, уходили в леса, в глубокую тайгу, и там устраивались на вольные поселения или кочевали в поисках немудрого и невеликого счастья. Но немало было и решительных смельчаков – те действовали огнем, дабы ущемить чем-нибудь беспредельно богатых промышленников. Пожары в строгановских имениях случались часто. Сгорало не раз Новое Усолье дотла, горело Усолье Камское и Капустная слобода; были пожары в имениях на Иньве, на Косве, на Чусовой и по всему Камскому краю. И если кто из поджигателей попадался, то суд у Строгановых был один – закапывать виноватых живым в землю. Но против такого закона, неписаного и крепко утвердившегося, существовала круговая мужицкая порука: под страхом смерти не выдавать своих.
Горели строгановские службы, усадьбы, дворцы и даже церкви; горели сотни домов и прочих построек в разных городах и заводских посадах. Велик был ущерб баронам, но еще яростнее бросались Строгановы на добычу богатств и скоро заново отстраивались и обзаводились прибыльными соляными варницами, рудными промыслами и всякими доходными мелкими и крупными предприятиями.
Случилось, барон Александр Николаевич сам кое-как спасся от гнева и мести подданных ему людишек, выскочил из горевшего имения в чем мать родила. После одного из таких поджогов барон временно, пока строился новый дворец, проживал в доме Соликамского воеводы Федора Разворзина. Чтобы забыться от постигших неприятностей, барон предавался разгулам. А когда кутежи надоели, Строганов, в сопровождении дворецких, со стаей собак пускался на охоту в леса, богатые зверем и дичью.
Однажды во время охотничьих забав Александр Николаевич повстречался за Новым Усольем, около деревни Огурдино, с девушкой, собиравшей в еловой чаще рыжики. Девушка была одета в длинный полосатый сарафан. Ноги ее были босы, голова повязана белым платком. Русая, аккуратно заплетенная коса спускалась до поясницы. Осторожно ступая по мшистой, слегка подернутой зеленью земле, она пальцами правой ноги нащупывала во мху мелкие рыжики, наклонялась, срывала их и клала в берестяное лукошко.