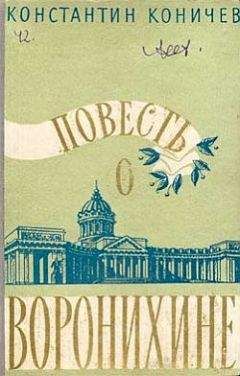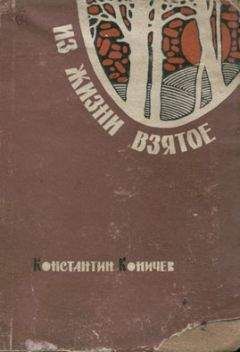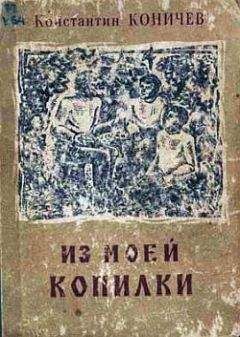– Красавица, ты что же без лаптей-то? Нету, что ли? Не боишься на гадюку наступить? – спросил Строганов.
Он внимательно рассмотрел девушку и подумал: «А ведь и впрямь красавица! Одень такую по-барски, ей во дворце честь и место!..»
Девушка выпрямилась, усмехнулась задорно и, не боясь что перед ней на коне самовластный барин, ответила:
– Босой-то легче рыжики находить. Мелких глазом не видно, а нога нащупает. А от гадюк я заветное слово знаю. Не страшусь их…
– Ишь ты, бойкая! Чья такая?
– Мы-то? Демидовские. Исполу работаем: день на солеварне, день на себя.
– А звать как?
– Чероевой Марфушей звать. А тебе зачем? Не купить ли хошь? Я у Демидовых непродажная. Не беглая, испокон вогульские мы, тутошние…
– Никифор! – кликнул Строганов дворецкого, ехавшего позади. – Запиши-ка эту девку на память: Демидовская, Марфа Чероева… Да чтоб была в моей дворне. Нечего ей тут по кочкам прыгать. Глянь, видал ли краше?..
– И то, ваше сиятельство. Дородна, лицом бела и всем корпусом вышла, – ответил дворецкий Никифор Воронихин. – Да чего ее записывать, я ее знаю, и мать её знаю. По соседству будут, огурдинские, из вогулов.
Строганов не отрывал взгляда от девушки:
– Ну-ка, Марфуша, пройдись, не хромая, часом?
– Хромая, барин, хромая. На обе ноги! – посмеиваясь, отвечала Марфуша.
– Шутит, ваше сиятельство, здорова, как репка.
– Смотри, девка, со мной не шути. Знаешь, кто я?
– Ой, кабы не знала я, кабы не ведала, то в тайгу от тебя я не бегала. Так хороша, говоришь? – с усмешкой спросила Марфа барона.
– Хороша.
– А скажи, ваша милость, на погибель мне красота девичья или на счастье?
– На счастье, девонька!
– Смотри! Я не только от змеиного укуса слово знаю. Знаю и приворотное зелье, на чем оно растет. Ой, приворожу. Не посмотрю, что барин.
– Смела! – удивился Строганов.
– А чего мне страшиться? Сам посуди: не богато мое имение – лукошко рыжиков. Поезжай-ко с богом своей дорогой. Тебе, ваша светлость, охотиться за зверем да за птицей, а не за бедною девицей…
В тот день и охота была не в охоту барону Строганову. Пошнырял он с дворовыми людьми по лесу около Нового Усолья впустую. Приехав в Соликамск, сразу же кинулся барон по широкой чугунной лестнице в покои Демидовых. Во что обошлась Строганову вогулка Марфа Чероева – неизвестно, но стала она его добычей. И как ни охоч был Александр Николаевич до красивых пермячек, Марфа Чероева словно и впрямь приворожила его – казалась ему краше всех. В шелка одевал он ее, в дорогие меха, высокий, осыпанный крупным жемчугом кокошник Марфы был предметом зависти всех девок в Новом Усолье. А когда она первый раз стала беременна, Строганов распорядился отправить ее в деревушку Огурдино, где для Марфы и ее смирившейся строптивой матери были уже построены хоромы из самого толстого леса, с большими светлыми окнами, тесовой крышей, с резными наличниками. И усадебкой земельной наделил Строганов Чероеву, так что было где огород развести, было на чем покопаться хлопотунье матери.
И упреки, и брань слышали Марфа и ее мать от людей:
– Не честным путём барским добром пользуетесь… грех на душу берете!..
– Грех-грехом, а добро-добром. От трудов праведных только горб нажить можно, – оправдывалась Марфина мать и даже гордилась, когда появилась на свет внучка – баронское отродье. Да оказалась внучка не живуча.
Марфа поправилась после родов и стала еще краше, чем прежде. И снова привезли Марфу на подворье к барону. Она осилила грамоту – выучилась с помощью дворецкого по церковным и по светским книгам, коих немало было в строгановской библиотеке. А как пела она! За сердце брали барона ее песни – протяжные, заунывные.
Ой, да разнесчастная Марфуша уродилася,
Тоска-печаль Марфуше приключилася,
Ой, иду ль я в Усолье иль иду домой,
Горе-горькое по следу идет за мной.
Везде-то Марфушеньку журят-бранят,
Ой, журят-бранят да все плакать велят…
Но свыклась Марфа со своей судьбой. Пела она песни тоскливые, а слезы на глазах не появлялись. Да и что было делать? Разве с другими подневольными девахами не поступает барон, как ему заблагорассудится? Он хозяин на своей многолюдной вотчине, за ним право выбора лучших девушек. Если и мелкопоместный дворянин в свадебную пору пользовался «правом первой ночи», то таким господам, как Строганов, сам бог велел не избегать столь постыдного правила. И все же лучше Марфы Чероевой не находилось. Эх, кабы была она почтенных родителей дочь!.. Но разве можно демидовскую работницу-солеварку, вогулку, привезти в Питер во дворец на Невский проспект? Можно-то можно, да только осторожно: привезти в столицу прислугу или мастерицу вышивать жемчугом и золотой ниткой по бархату. Так и думал поступить Строганов. Помехой его намерениям оказалась вторая беременность Марфы. Снова была отправлена она в деревню Огурдино, в дом, подаренный бароном. И вскоре появился на свет сын, которого соседи звали «баронёнком» по отцу и «воронёнком» по крестному Никифору Воронихину, вынужденному приказом барона записать новорожденного Андрейку под свою фамилию, но с некоторой нарочитой неточностью: «Воронин» вместо «Воронихин», дабы совесть его и честь барона были не запачканы хотя бы в метрической книге у приходского попа, усердно служившего богу и барону.
Спустя год Марфа с Андрейкой были вызваны из Огурдина в Соликамск показаться своему благодетелю. И все приближенные Строганова, видевшие ребенка, без обиняков судачили, не расходясь во мнениях:
– Как две капли, весь в отца!
– И глазом хитер, и носом востер, и подбородочек узкий, не вогульский, не материн, отцовский. Ну, Марфа, счастлива! Надо же такого родить. Озолотит ее барон… Озолотит!
Строганов и вправду был доволен, но и озабочен, как бы столь близкая и долговременная связь с вогулкой, кончившаяся появлением на свет сына, не стала широким достоянием гласности там, в Питере.
«Девчонка-дочурка была не живуча, а этот, видно, будет жить. Ну и пусть на здоровье!» – решил тогда Александр Николаевич и в тот же час вызвал он из иконописной мастерской живописца Гаврилу Юшкова, заказал ему сделать медальон – ладанку с изображением Марфы и Андрейки эмалью, да сделать скрытно, не на чужих глазах…
Гаврила Юшков был мастер искуснейший, слава о нем шла по всему Пермяцкому краю. Иконы его письма строгановской школы украшали церкви и монастыри в Веслянах и Верхотурье, в Новом Усолье и в Пыскарской обители. Только у Соли-Вычегодской ни в одной из двенадцати церквей не было икон письма Гаврилы Юшкова. Там хватало своих художников, и самые лучшие из них в то время не оседали на Вычегде, а по приказанию Строгановых перебирались в Соликамье, в Ильинское сельцо, где была иконописная школа и мастерская, а в ней за главного мастера и учителя – Гаврила Юшков. Понимал Юшков тонко не только живопись, он и в зодчестве смыслил, умел делать модели храмов, этому же обучал и молодых старательных и одаренных способностями людей. Но главным все же была иконопись и очень редко писались портреты светских особ. Это было трудней. А на иконах рука набита, к тому же и уставы-наставления общеизвестны с древних пор.
Вознаградив Гаврилу Юшкова за эмалевую ладанку, Александр Николаевич, уезжая в Петербург, наказал старому и богобоязненному живописцу:
– Как подрастет у Марфы Чероевой Андрейко, ты его учи грамоте и рисованию. Да еще Пашку Карташева, как подрастет, возьми себе в ученики. За труды, буду жив, вознагражу тебя за сих безотецких нагулышей…
– Приголублю обоих, ваше сиятельство, со всей строгостью преподам им науку. Стало быть, от девки Карташевой тоже ваше дитя? – спросил художник барона.
И не рад был, что спросил. Барон, подняв кулак, грозно рявкнул:
– Не твое холопское дело, богомаз! – И сурово добавил: – Делай, как велено!
Никифору Воронихину, своему дворецкому, барон приказал из Нового Усолья переселиться в село Ильинское, где была главная строгановская контора, управлявшая всеми владениями и промыслами Прикамья. И ему же наказал барон взять на постоянное житье под надзор Марфу Чероеву и воспитывать Андрейку.
Пришлось Никифору Воронихину согласиться. И образовалась тогда у строгановского дворецкого одна семья из трех фамилий: сами – Никифор с женой и своими детками – Воронихины; жиличка – Марфа Чероева, а ее сынок – Воронин Андрейко. Однако ни для кого из соседей эта тайна не была тайной. И хотя подросший ребенок по наущению старших называл Никифора тятей, его супругу Пелагею – мамой, а свою родную мать Марфу сначала няней, а потом – теткой, все люди в окрестности – и добрые и злоязычные – знали, что это обман и Андрейка, как только подрастет, поймет, почему он ребятишками окрещен кличкой «бароненок». И Андрейка это понял. Незаконнорожденный, приблудыш, нагулыш – эти и подобные им прозвища с обидой воспринимались его чутким сердцем. С детских лет он становился замкнутым, молчаливым, скрытным, что не мешало быть ему любознательным и способным в учении.