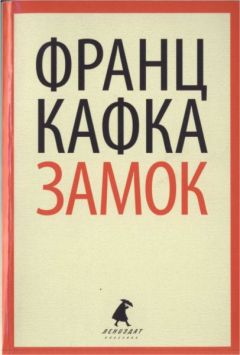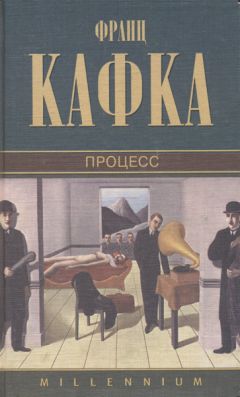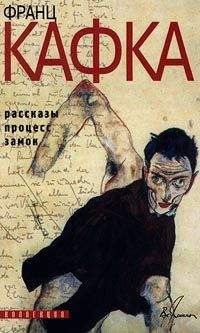спустя пару раз звякнули снимаемые с плиты кастрюли, послышался перестук тарелок, которые чья-то рука громоздила друг на друга. Через пару минут мать бросила ей:
– Оттла, отдашь пакет обратно брату. И не тяни, отец может нагрянуть в любую минуту и тут же его увидит.
Из-за яркого июньского солнца, заливавшего комнату своими ослепительными лучами, она задернула шторы. Потом вернулась на место и с тяжелым сердцем стала перечитывать страницы письма, разрываясь между ужасом и тоской.
Мои неоднократные попытки жениться, боюсь, я тоже не смогу объяснить. Проблема лишь в том, что от этого всецело зависит успех данного письма, ведь если, с одной стороны, в этих попытках я сумел объединить все, что во мне было хорошего, с другой – против меня единым, яростным фронтом выступили все качества, в моем понимании ставшие результатом твоего воспитания, такие как слабость, неуверенность в себе и чувство вины, встав на этом пути неодолимым препятствием… Сегодня у тебя есть все возможности ответить на многие вопросы касательно моих матримониальных поползновений, в частности о том, что ты делал: не мог уважительно относиться к моим решениям, в то время как я дважды разрывал помолвку с Ф., затем каждый раз возобновлял, а потом тщетно пытался вытащить вас с мамой в Берлин на свадьбу. Все это так, но каким образом я до этого дошел?
«В Берлин на свадьбу…» Перед ее мысленным взором вновь возникает несостоявшаяся церемония в роскошной берлинской квартире Бауэров, где Францу в присутствии двух семей предстояло надеть на палец Феличе колечко. Это бракосочетание должно было скрепить печатью многолетнюю пылкую переписку и положить конец разлуке двух влюбленных сердец, соединив их на всю жизнь. В ослепительном сиянии хрустальной люстры Франц нервно мерил шагами пышно убранные гостиные и коридоры, взгляд его блуждал, лицо замкнулось, весь вид предвещал близкую катастрофу. Будто приговоренный перед казнью. На это поразительное зрелище с негодованием взирали участники церемонии и гости. На их глазах событие, призванное чествовать самый прекрасный день в жизни, превращалось в драму. Свадьба окончательно расстроилась, и 14 июля 1914 года в отеле «Асканишер Хоф» виновнику нанесенного Бауэрам оскорбления был вынесен суровый приговор.
Оттла не питала ни малейших сомнений по поводу недолговечности и хрупкости их с Феличе союза. Подобно сыновней покорности и общественной субординации, брак для Франца представлял собой помеху его литературному призванию. «Суд в отеле ”Асканишер Хоф”», как он порой его иронично называл, свидетельствовал, что он нарушил самые тайные, самые дорогие сердцу клятвы. А она пребывала в полном убеждении, что брат был не столько покаянной жертвой этого разбирательства, сколько его зачинщиком. Сотни писем, отправленных Феличе за долгие пять лет, лишь скрывали собой его смертельный страх перед браком и оттягивали роковой час. Но в один прекрасный день ему наконец надо было перейти от слов любви к делу, вместо пылкой переписки обменяться кольцами, подчиниться законам брака, уступить желаниям плоти и положить конец одиночеству, предпочтя его тесному общению. В один прекрасный день надо было выбрать между одиночеством и Феличе, между жизнью и литературой. Он выбрал литературу, но не жизнь.
Письма Феличе и Милене, по крайней мере те, которые он давал ей читать, возводили его в ранг мастера любовных игр, позволяли уворачиваться, лгать, прятаться, давать ложные клятвы и манипулировать другими. Как бы эти послания ни потрясали, предназначались они незнакомкам – ну или почти. Может, на них даже не надо было отвечать? Может, их можно было просто читать как незамысловатые и возвышенные внутренние монологи? Юные невесты могли сразу совершить ошибку, узрев в них обещание великого продолжения в виде супружеской жизни, в то время как в действительности это было лишь преддверие деятельного сознания. А безумная ярость, с которой он возвещал миру о своей жажде любви, по всей видимости, представляла собой не что иное, как очередную манеру утолять литературный голод.
Оттла не видела никакой разницы между его письмами, рассказами и дневником. Представлять Франца в трех ипостасях – сочинителя писем, автора романов и человека, ведущего личный дневник, – для нее было немыслимо, он для нее всегда был един.
Женщина в его письмах превращалась в какое-то бумажное существо. Этот процесс представлял собой полную противоположность сочинению романа, когда воображаемый персонаж благодаря авторскому перу обретает жизнь, а вымысел – черты реальности. Франц же превращал в вымысел саму реальность. Полагая, что он обращается к ним, не только Феличе, но даже Милена глубоко ошибались. До знакомства с Дорой, пока он каждое утро не стал просыпаться рядом с существом из плоти и костей, любовь для него оставалась страницей, которую только еще предстояло написать. Письма Феличе и Милене представляли собой самый потрясающий любовный роман. Одновременно выступая в роли постановщика и актера этого театра теней, он всегда выбирал в нем для себя наилучшую роль – когда идеального зятя, когда проклятого писателя.
Вполне возможно, что это отсутствие грани между реальным и воображаемым, пусть даже взращенное во имя священной литературы, представляло собой симптом тихого помешательства – восхитительного, благословляющего плодотворное сочинительство, но настолько мучительного, что его разрушительное неистовство чуть не погубило Феличе и Милену. Своим ослепительным согласием письмо повергало его получательницу в состояние, близкое к параличу. А в душе Франца подпитывало иллюзию принадлежности к клану мужчин. Мир для него стал одним большим почтовым ящиком, на котором он забавы ради время от времени менял фамилии.
Она вновь берется за чтение и дрожащей рукой берет последнюю страницу письма брата отцу.
Иногда мне случается представлять карту всей земной поверхности, на которой ты занимаешь каждый дюйм. И тогда меня охватывает чувство, что для жизни мне подходят единственно края, либо свободные от тебя, либо до которых тебе не дотянуться…
Однако в данном случае гораздо важнее страх, который я испытываю в отношении самого себя. Понимать его надо примерно следующим образом: как я уже говорил, упражнения в сочинительстве и все, что с ними связано, принесшие лишь самый ограниченный успех и не более того, позволили мне предпринять ряд попыток обрести независимость и бежать, у которых нет продолжения, о чем свидетельствует целый ряд факторов.
Жизнь не какая-то там мозаика, а нечто неизмеримо большее; но с учетом поправки, обусловленной этим возражением, – поправки, которую у меня здесь нет ни желания, ни возможности подробно излагать, – мы, несмотря ни на что, все же сумели добиться результата, приближающего нас к истине достаточно для того, чтобы принести облегчение и научить легче относиться как к жизни, так и к смерти. Мне, по крайней