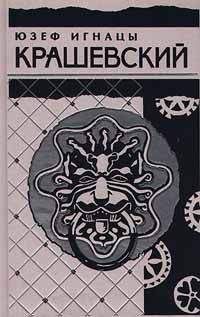— После вчерашнего признания, — думал он, — она, по крайней мере, несколько дней не покажется.
Но он не знал сердца женщины и забыл, воспитанник города, сельские обычаи. Марина явилась снова в свое время веселая, как и вчера, спокойная и первая его приветствовала обыкновенным своим "добрый вечер".
Глаза ее еще смелее на этот раз повторяли то, что вчера уста выговаривали. Остап встревожился. В сердце его осталось только страдание, но не могло быть и не было страстной привязанности, потому что он обратил всю ее к одной женщине. Он чувствовал какую-то благодарность, приязнь и благосклонность к девушке, которая так привязалась к нему. Он уже давно видел, как она с трепетным уважением прислушивалась к его словам, не раз замечал огонь в ее взгляде, обожание в голосе, краску в лице, но объяснял это уважением, боязнью, благодарностью. Любовь, неожиданно явившаяся на пути жизни, уже замкнутой у него в тесные пределы, была теперь заботою. Как отплатить за это чувство, с чего начать? Совесть приказывала оттолкнуть эту ненужную ему любовь, жалость противилась этому. Поборясь с минуту, он наконец решил, как многие другие, что это только минутная склонность, что сильные страсти вообще редки, а у людей низшего класса встречаются еще реже: эти люди не имеют времени раздувать этот огонь, тяжелый труд защищает их от сильной скорби, это пройдет.
После этого размышления он поднял голову, отвечая на приветствие красивой Марины ласковым "добрый вечер!". Марина, как и всегда, убранная в полевые цветы, свежая, почти нарядная, посмотрела на него с жаром, кокетливо прислонясь к пню дуба, под которым он сидел, и вступила в разговор.
— Видите, как я проворно отделалась: вскопала часть огорода, высадила и полила рассаду, приготовила ужин и, поручив его матушке, поспешила к вашим коровкам. Справлялась у Лепихи, правда ли, что вы ее приговорили, но она и не слыхала об этом. Она не могла бы и сладить с коровами.
— Благодарю тебя, Марина, но ведь и тебе это будет нелегко.
— Тяжело-то ведь только то, что неприятно, — отвечала смело девушка.
— Ты такая добрая, моя милая Марина, что тебе всегда хочется сделать каждому приятное.
— Вы думаете каждому? О, нет! Я не такая добрая. Одному делаю, чтобы только сделать, другому же делаю от всего сердца.
— Помоги мне Бог возблагодарить тебя за твое доброе сердце.
Девушка вздохнула.
— Но разве я требую вашей благодарности?
Слезы навернулись на ее глазах, но она снова улыбнулась и сказала:
— Когда вы захотите отблагодарить меня, то помните, что вам стоит только позвать Марину и позволить ей долго, долго слушать, когда вы начнете говорить.
— Но о чем же?
— А о чем хотите. Я люблю слушать вас, хоть иногда и не понимаю. Голос ваш звучит в ушах у меня, как самая приятная песня птички.
— Благодарю тебя, — сказал с принужденной улыбкой Остап. — Я понимаю, что твое доброе сердце признательно мне за мать.
— За мать? — тихо произнесла Марина. — Пусть хоть за мать! Но мне кажется, что и без этого я чувствовала бы то же, что и теперь, потому что это чувство Бог знает откуда пришло ко мне. Прежде я вас боялась, очень боялась, думала, что такой умный человек должен быть очень страшен, но когда убедилась, что вы кротки и добры, мне любопытно было узнать ваш ум. Если бы теперь я вас долго не видала, то мне было бы очень грустно, а если бы мне кто сказал, что я вас никогда не увижу…
— Что же бы тогда, Марина? А ведь это, однако, может случиться? Я ведь не здешний и когда-нибудь могу удалиться отсюда.
— О, не говорите! Зачем это говорить? Этого быть не может! Но если б ты ушел от нас далеко, то я последовала бы за тобой.
— Ты шутишь, Марина, — сказал Остап с тяжким чувством в сердце. — А мать? А отец? — добавил он кротко.
— Мать, отец, это правда! — продолжала она грустно. — Мать, отец, хата наша, поле наше — все это тяжело покинуть, и что бы они стали делать без своего единственного детища? Но если бы я не могла последовать за тобой, то бы вот… я не знаю…
Выговорив это, она отскочила от дерева, схватила дойник и, закрыв глаза передником, побежала в хлев. Остап встал, задумчивый, грустный, почти рассерженный и заперся в своем домике. Час спустя Марина искала его под дубом, в саду, на пороге, подкралась к окошку и увидала наконец, что он сидит, опершись на стол, в такую пору, в которую привык быть на воздухе, она подумала, что он избегает ее.
— Так он хочет этого, — думала она. — Ну, и не увидит меня больше, а я все-таки буду его видеть.
И скорым шагом поспешила домой.
Остап промучился взаперти до поздней ночи. Уверившись, что Марина уже ушла в деревню, он вышел, по обыкновению, на порог, потому что имел привычку сидеть долго ночью на камне у дверей в размышлении и молитве. Приближалась полночь, глубокая, таинственная, прекрасная тишина весенней ночи наполняла окрестность, поражая своим величием. Вдруг послышался ему отдаленный топот лошадей и говор людей.
— Может быть, кто-нибудь едет за мною, — подумал он и пошел к дому. Легкий ветерок со стороны ехавших явственно доносил голоса их. Остап мог расслышать отрывистые слова:
— А не ошибаешься ли ты, братец мой?
— Нет, пан, вот уже мы и под яром.
— А что, дома ли он?
— Кажется, что дома.
Остальные слова заглушил топот лошадей. Вопросы сделаны были по-польски, ответы же на простонародном наречии.
— Это кто-нибудь ко мне едет. Слава Богу, что я готов.
Он ожидал на пороге. Отворили ворота, и въехал сперва один, потом вошел другой, ведя за собой лошадь. Месяц осветил мужчину, закутанного темным плащом, он остановился перед крыльцом и готов уже был войти в дом, как, заметив Остапа у дверей, узнал его и бросился ему на шею.
— Альфред!
— Остап! — вскрикнули они разом.
— Что за неожиданный милый гость, — сказал хозяин, ведя его в неосвещенную еще комнату. — Приехал, вероятно, к знакомым, к родным и не забыл обо мне. Но почему же так поздно?
Договаривая последние слова, они вошли в избу и затворили за собою двери.
— Как я благодарен тебе! — сказал Остап.
— Не удивляйся и не благодари, — сказал Альфред грустным голосом. — Я приехал именно к тебе и привез не дружеское приветствие, а тяжкое бремя на твои плечи.
— Ты говоришь бремя, Альфред? Можешь ли ты быть тягостен мне?
— О, не обо мне речь! Подожди, у меня нет сил рассказать тебе все вдруг, дай отдохнуть, дай успокоиться. Отправь человека, который меня сюда проводил, прикажи ему молчать, меня ищут, пусть никому не говорит, что он проводил меня сюда.
— Почему это? Что это значит? Разве ты скрываешься?
— Я бежал!
— Ты?
— Я! Повидайся с ним, ты знаешь его, попроси его от себя, вот деньги, они тебя все любят, для тебя будут молчать, не спрашивай больше, а делай, что я говорю.
Отправляя знакомого ему проводника для отдохновения и для подкрепления сил, Остап наградил его и наказал ему никому не говорить, что он кого-то провожал на хутор.
— Мне могло бы это повредить, — добавил он, рассчитывая на общую к нему привязанность.
— Будьте покойны, ни одна живая душа не узнает об этом, — шепнул проводник.
Когда принесли свечу, Остап изумился, посмотрев на Альфреда, удивительно переменившегося. Преждевременная старость сморщила некогда прекрасные черты его лица, они сделались суровее и покрылись сухой, пожелтевшей кожей. Редкие волосы начинали уже седеть, щеки глубоко впали, взор потух, и сгорбленная спина уменьшила рост.
— Что с тобою? — спросил Остап, садясь около него. — Говори, прошу тебя, что с тобою? Ты должен все рассказать мне. Говори скорее! И мне, и тебе будет легче.
— Мне, может быть, а тебе — не знаю, — сказал грустно Альфред, — а вероятнее, что и обоим нам не будет легче. Но слушай, мы одни, вот тебе моя исповедь. Видишь, как я изменился. Это счастье мое отпечаталось на лице.
— Альфред, меньше иронии, больше сознания, — тихо сказал Остап, сжимая его руку.
— Я не шучу и не злословлю, — важно подхватил граф, — нет, говорю тебе истину. Я был счастлив и теперь счастлив, но счастье мое терзает меня. Михалина прекрасная жена, ангел доброты, но, взирая каждый день на то, чего стоит ей мое счастье, ты видишь, как я изменился. Меня грызет и отравляет приносимая этой женщиной жертва.
— Она тебя любит!
— Она не любит меня, не любила и не могла любить, — сказал сурово граф. — Она одна из тех редких женщин, которые любят только однажды и навсегда.
Остап опустил глаза, покраснел, притворился, что не понимает и молчал.
Альфред продолжал далее:
— Но Мизя, как святая, присягнув раз у алтаря разделить жизнь со мною, исполняет свою жертву геройски, мученически. Живет мною и только для меня, хотя сердце ее не при мне и не для меня. Господь Бог послал ей утешение — ребенка, у его колыбели она нашла еще силы для несения своего креста. Я открыл тебе нашу глубокую, семейную тайну. Другим этого никогда не узнать. Михалина искусно прикрывает свою сердечную рану улыбкой на устах и спокойствием взгляда.