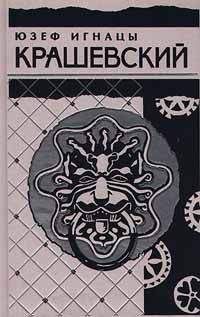— Альфред, — прервал Остап, — позволь припомнить тебе то, что я уже не раз говорил давно, еще в Берлине. Вы, люди, испорченные дурным воспитанием, привыкли в каждом цветке, прежде чем заметите запах его и красоту, видеть червячка, который его точит, а пыль, которую видите на конце цветочного стебелька, кажется вам чудовищем. Ваши страдания более воображаемы, нежели действительны.
— Это не мечта, а святая правда. О, как бы хотел я обмануться! Но довольно об этом, сердце мое обливается кровью. Разбери жизнь мою. Я не могу ни показать ей, что знаю, как она страдает, ни утешить ее. Люблю ее, жажду взаимности и в то же время потерял всякую на нее надежду. Одним словом, я несчастлив. Уже два года, как я знаю, что Мизя не может перемениться в отношении ко мне. Она уважает меня, ценит, но любить меня не может.
— Бедный Альфред, как же ты хочешь еще, чтобы она тебя полюбила! Ведь ты говоришь, как двадцатилетний юноша.
— Нет, это не ребячество, я глубоко знаю ее сердце, знаю, как она умеет, может любить и любит другого. Я целое лето следил за ней и знаю…
— Продолжай, — прервал его Остап.
— Я вечно с веселым лицом, притворяюсь, что счастлив, целую ручки с благодарностью, а тут, — добавил он, ударяя себя в грудь, — у меня целый ад! Раздраженный и бешеный против себя, я всю злость изливаю на других.
— Чем же они виноваты?
— Знаю, что не виноваты, но страсть не имеет логики, я виноват сам, но на ком же мне выместить это?
— Для чего же тебе мстить?
— Я хочу мести.
— Альфред, я не узнаю тебя!
— Я сам не могу себя узнать ни в зеркале, ни в собственном сердце.
— Бедный Альфред!
— Я искал этой глупой мести и нашел свою погибель! Все, что жило в соседстве у меня, я успел раздражить, вооружить против себя и вывести из терпения и нажил себе много врагов.
— Помилуй, Альфред, это заблуждение, это помешательство!
— Да, это сумасшествие, но я не могу владеть собою, мучаю себя, мучаю других. Это сумасшествие, признаюсь, но вылечи же меня от него! Не можешь?
— Кто знает?
— Я отравил жизнь ее и счастье, да и свое тут же. Кто знает, может быть, я нашел бы другую? Я не любил ее, когда женился на ней, любовь родилась и развилась от невозможности вполне владеть Мизей. Остального ничего не знаю, не понимаю. Я несчастлив, довольно этого.
— Но отчего же бежишь ты? Зачем скрываешься? Что с тобой?
— Это последнее и самое высшее мое несчастье: я должен оставить родной край.
— Почему же?
— Из-за ребячества, — угрюмо возразил Альфред. — Я был зол и хотел на ком-нибудь излить свою злость, встретился со мной какой-то сумасброд, я плюнул ему в глаза, он вызвал меня, мы стрелялись и…
— Ты убил его! — вскричал Остап.
— Что же из этого? Убил, — сказал Альфред, пожимая плечами. — Самое дурное то, что я должен бежать.
Остап содрогнулся.
— И эта кровь не тяготит тебя, кровь невинная, кровь братская? — сказал он.
Альфред опустил голову и вздохнул. До сих пор он говорил как бы в бреду, теперь же бросился на постель, воскликнув:
— Молчи, и так уж довольно!
После минутного молчания он поднял свое бледное лицо и продолжал далее:
— Убил и должен бежать, за мною гонятся. На этих днях, по милости друзей, я получил паспорт за границу. Но я не выеду отсюда, пока ты мне не дашь слово, что жена моя и ребенок останутся под твоим покровительством, хотя бы до моего возвращения, хоть бы не знаю, до которых пор. Ворочусь ли я еще?
— Под моей опекой? — воскликнул Остап, как бы не понимая смысла сказанного.
— Завтра я уезжаю за границу, а ты отправляйся в Скалу, как опекун Мизи и Стаси.
— Я их опекун! Что с тобою делается? Взгляни на меня. В чем может помочь простой мужик, как я?
— Все сделаешь и сумеешь, если только захочешь. Я оставляю мое состояние в самом дурном положении: процессов множество, люди от дурных управляющих разорены и почти взбунтованы отчаянием, соседи все ко мне неприязненны, кредиторы беспокойны. Мизя совершенно одна, отказ твой погубит нас.
— Как мне обещать, если я не знаю, как мне справиться с теми обязанностями, которые ты возлагаешь на меня?
— Твое сердце, воля и ум укажут тебе, что делать.
— В делах приобретения и управления я ничего не понимаю.
— Для тебя нет ничего трудного.
— Альфред! Что за дикая мысль?
— Неужели же я ошибся, рассчитывая на твою приязнь?
Остап замолчал, Альфред взглянул ему в глаза и живо добавил:
— Я полагаюсь на тебя, ты меня понимаешь. Я тебе вполне доверяюсь.
— Но я себе не доверяю, — возразил грустно Остап.
— Ты силен, ты можешь сделать, что захочешь, повторяю, пожелай только, и ты спасешь нас.
— Но это превышает мои силы. Я обманул бы, если бы обнадежил тебя.
— Послушай же, Остап, — сказал граф, вставая, — или я, осужденный, пойду вместе с ними в минуту своего гнева искупить тяжким страданием мой проступок в униженном изгнании, или уйду, оставляя постыдно все, что есть драгоценного для меня, на погибель, на нужду, на злобу неприятелей.
— Хочешь говорить откровенно? — отозвался Остап.
— Говори, но не покидай меня… нас.
— Михалина… — сказал Бондарчук с усилием, но его голос замер.
— Любила тебя и любит еще, — прервал Альфред, — это я знаю, но знаю вместе и то, что я доверяю судьбу мою благороднейшему из людей. Этого я не боюсь.
— Может быть, увидав меня теперь, она рассмеется, пожмет плечами и исцелится, хорошая и прекрасная мысль! — сказал Остап, вздыхая и смеясь. — Я явлюсь перед ней так, чтобы она не могла полюбить меня, нарочно искажу себя, покажусь ей холодным, равнодушным, бестолковым, и она меня станет презирать.
— Ты все это сделаешь для меня! — вскрикнул Альфред в порыве радостного эгоизма.
— Для тебя? Нет! Для нее только! — возразил Остап. — Для нее, потому что я люблю ее. Сделаю это, а потом скроюсь и умру.
Альфред бросился к нему на шею. Остап, истощенный, упал на лавку и замолчал.
Альфред после долгого ночного разговора не сомкнул глаз ни на минуту и на заре начал собираться в путь. Остап, утомленный, грустно смотрел на отъезд Альфреда и, казалось, боязливо отступал перед величием жертвы, на которую он согласился.
— Послушай, — сказал Альфред при отъезде, — сейчас же поезжай в Скалу, не погуби их и меня. Ты для них и для меня заменяешь всех и все. Знаю, что бремя тяжко, но ты великий человек, снесешь его…
— Или изнемогу под ним.
— Не изнеможешь! — воскликнул Альфред. — Ты силен.
— Это известно одному Богу, — грустно отвечал Остап. — Но поезжай спокойно, сделаю, что могу, посвящу себя, не оглядываясь ни на себя, ни на что. Если жертва эта, как и много им подобных на свете, останется бесполезной, то не сетуй на меня за это. Беру свидетелем Того, Который все видит, что даже крови моей не пожалею для вас.
Они обнялись, и Альфред погнал лошадь, не желая больше видеть лица приятеля, потому что оно, бледное и пасмурное, было для него грозным упреком.
Остап остался на крыльце, прикованный к месту, остолбеневший, в том положении умственного изнеможения, из которого тяжело выйти. Целый почти день прошел у него в размышлении о будущем и в рассмотрении оставленных Альфредом бумаг, планов, к вечеру, не похожий сам на себя, усталый от потрясений, мыслей и чувств, он потащился под свой дубовый крест, взглянул на этот знак, ежедневно напоминающий нам все величие Божеской жертвы, и слезы, как у ребенка, обильно полились из его глаз.
— Творец креста, Творец терпения! Научи меня, что мне делать? Ты видишь, что мне ничего не жаль, что я трепещу только при мысли о громадности возложенной на меня обязанности, но готов на подвиг, дай мне сил, управляй мною, подкрепи меня, если я поколеблюсь или изнемогу.
И он почти без памяти опустился на камни.
— Добрый вечер! — раздался веселый голосок Марины. Но он дико и неприятно зазвучал на этот раз в ушах Остапа.
Он поднял голову, взглянул, не узнавая говорившей и не сознавая сказанного ему, потом медленно, всматриваясь в лицо улыбающейся крестьянки, отвечал ей приветствием, но таким тихим голосом, что она едва могла его расслышать.
Она ясно видела, что Остап был не в обыкновенном расположении духа: лицо, глаза, голос выражали необыкновенное волнение, печаль и утомление. Девушка с чувством посмотрела на него и спросила:
— Что с вами?
— Со мною? Ничего, как видите.
— Нет, что-то есть! Уж не больны ли вы?
— Нет, нет.
— Но что же сделалось с вами?
— Ровно ничего, жаль этого спокойного яра, моей тихой хижины и вас всех.
— Почему же жаль? — живо подхватила Марина, придвигаясь к нему.
— Потому что все это я должен покинуть.
— Как так? Для чего покинуть? Я вас не понимаю.
— Завтра или не далее, как через несколько дней, я должен ехать.