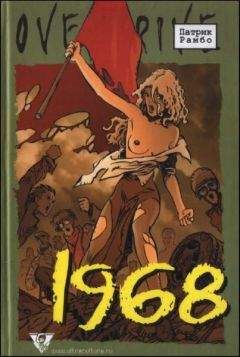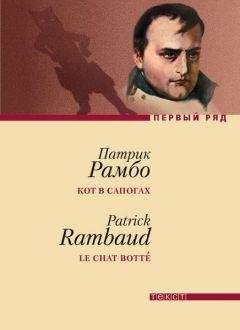Корбьер заговорил об этом с сержантом в очках с толстыми, как бутылочные донца, стеклами, который помогал штемпелевать сегодняшнюю почту.
— Парашютисты? — переспросил сержант, — А, вон те, в боевом обмундировании? (В окно было видно, как они маршируют.) Это учения.
— Наверняка их отправят поближе к Парижу, — сказал Корбьер, чтобы разузнать побольше.
— Наверняка, — сказал сержант. — Серьезные ребята.
— Они могут начать стрелять в забастовщиков?
— Они политикой не занимаются. Они подчиняются приказу, как автоматы. Автомат не имеет ничего общего с политикой.
— А кто отдает приказы? Во всяком случае не офицеры, они почти все. заболели и сидят по домам.
— В Алжире, — сказал сержант, — я вообще не видел ни одного офицера во главе подразделения, ни единого. Я даже знавал одного унтер-офицера, который исчез за час до атаки с картой и компасом, и больше его никто никогда не видел. А тут тридцать рядовых галдят: «Что нам делать, сержант?» Я лично сделал все, что мог.
Поскольку большинства офицеров не было на месте, у Корбьера и унтер-офицеров, отвечавших за прием самолетов, было полно работы. Всех солдат, которые не смогли добраться до своих подразделений из-за забастовки, направляли в Эвре, их присылали туда почтовыми самолетами из Истра, Авора, Ландивизье, Дижона. Некоторым предстояло дожидаться здесь не один день, другие, исколесив всю Францию, прибывали сюда для отправки домой. Жуткий кавардак. Как бы его усилить? Как дезорганизовать авиабазу? Корбьер и его приятель с телетайпа, солдат второго класса Боке, спорили об этом до потери сознания.
— Не повезло нам, — говорил Корбьер, — еще через два месяца мы могли бы откосить от армии…
И он показал привезенную из Латинского квартала смятую листовку, лежавшую у него в кармане:
Будущий призывник или студент, получивший отсрочку!
Подчиняться конституции — не значит ли это предавать Революцию? Наши подрывные действия внутри армии зачастую оказываются неэффективны. Если ты собираешься отказаться от службы в армии, приходи к нам в Сенсье, комната 314, ежедневно с 20 до 22 часов.
— Нам уже по фигу, — сказал Боке, покачав головой.
— А что, если нам устроить «забастовку усердия»?
— предложил Корбьер. — Так мы задержим отправление парашютистов и жандармов. Это-то мы можем сделать…
Бюро культурных акций Сорбонны сообщало в рукописном объявлении, что в двадцать два часа в главной поточной аудитории университета выступит Жан-Поль Сартр. В Париже в тот день не было других зрелищ, так что поклонники писателя и просто любопытствующие присоединились к студентам и с вечера в шумном беспорядке стали набиваться в заполненную сигаретным дымом аудиторию. Службе охраны едва удавалось усадить столько народу, но никого не затоптали, не поранили и не задавили, несмотря на присутствие наводящих ужас охранников-«катанге»[73], опасной команды, которой Оккупационный комитет платил по 180 франков в день за обеспечение порядка и безопасности университета. Это было сборище парней в черных куртках и безработных с накачанными мускулами. Их главарем был большой выдумщик по имени Люлю, который врал, будто родился в Шанхае, и выдавал себя за бывшего торговца оружием, побывавшего на двадцати войнах, от Конго до Йемена. Его бросающееся в глаза и агрессивно настроенное войско облачилось в полосатые брюки, рединготы, фригийские колпаки или каски отрядов республиканской безопасности, причем все эти вещи были подобраны на улице или прихвачены в «Одеоне». Еще у них были дубинки, топорики, велосипедные цепи и даже канистра с бензином, которую таскал за собой верзила-итальянец, прозванный Поджигателем.
Команда из Нантера снова сплотилась вокруг Родриго. Не хватало только Марианны, она теперь ходила только к своим маоистам. Тео уселась на колени к статуе Блеза Паскаля, Марко и Порталье облокотились на постамент. Было жарко, пахло пылью, потом, табаком. Оратора на трибуне дружно освистали. Его спас приезд Сартра. Под свистки философ в тесном сером костюме и темной рубашке пересек зал. Его обступили, понесли, ослепили фотовспышками, подняли на сцену и усадили между коренастым бородачом и хорошенькой блондин кой. Руки у философа дрожали, он выглядел взволнованным среди множества микрофонов и толпы фотографов. Сартр начал:
— Думаю, вам уже давно надоели лекции. Мне тоже. Я жду ваших вопросов.
Их пришлось ловить на лету среди множества выкриков, несшихся отовсюду:
— Вы хороший писатель, но никудышный политик!
— Я пришел сюда в качестве интеллектуала.
— Как вы относитесь к Кон-Бендиту?
— Он ведет движение протеста в нужном направлении, пусть его и придерживается.
Постепенно Сартру с его надсадным, резким голосом удалось склонить аудиторию на свою сторону.
— Что вы думаете о поведении Всеобщей конфедерации труда?
— Она лишь следует за вами. Все началось с университета, с вас. Конфедерация присоединилась к движению, чтобы взять его под контроль.
— Как полиция?
— Конфедерация не хотела допустить, чтобы возникла эта первобытная демократия, созданная вами. Она вызывает раздражение у всех институтов власти. Конфедерация — тоже институт власти.
— Что вы думаете о том обществе, которое создается здесь?
— Сейчас складывается новое представление об обществе, основанном на полной демократии, союз социализма и свободы.
— А как же диктатура пролетариата?
— Часто это означает диктатуру, подавляющую пролетариат.
— А как насчет закосневших левых?
— Я не причисляю клевым ни партию Ги Молле, ни миттерановскую Федерацию!
Сартр в течение полутора часов отвечал на вопросы и похвалил публику за самодисциплину. В тот же день «Нувель обсерватер» опубликовала его беседу с Кон-Бендитом, который объяснял, что условия, необходимые для революции, еще не сложились, студенты никогда не возьмут власть, и речь идет о том, чтобы научиться жить по-своему в обществе взрослых. В это самое время Кон-Бендит пересекал границу в Форбахе, в машине с шофером, нанятой журналом «Пари-Матч». Из-за забастовки выразитель студенческих чаяний не смог вылететь из Орли, а потому принял предложение «Пари-Матч» в обмен на свои фотографии. Он должен был пробраться в Германию к пригласившим его коллегам. Пребывание Кон-Бендита в Берлине оплачивал журнал «Шпигель».
Вторник, 21 мая 1968 года
Ни сахара! Ни масла! Ни бензина!
Амалия, вздыхая, вошла в дом на бульваре Осман. Она не стала подниматься по лестнице для прислуги в глубине двора, чувствуя себя слишком усталой, чтобы тащиться пешком на пятый этаж, а опустила две свои тяжелые корзинки в лифте, предназначенном для жильцов. Ни прислуга, ни разносчики не имели права им пользоваться, но сегодня ей было все равно, даже если консьержка сделает ей замечание. И в обычные времена покупка провизии в этом роскошном квартале была делом непростым. Поблизости была только булочная на углу перекрестка Фридланд да итальянская бакалейная лавка на улице Вашингтон («грабители», говаривал мсье Порталье, потому что там все было дороже, чем в других магазинах, зато и закрывалась она позже). В остальные магазины, будь то мясная или овощная лавка, добираться приходилось долго. Раз в два дня, по утрам Амалия ездила на автобусе на площадь Терн и на рынок на улице Понсле, стоя на задней площадке и болтая с кондуктором или со своими обычными попутчиками. Из-за забастовки кухарке пришлось сократить свой маршрут, она стала ходить в Пьер-де-Шейо, там за церковью была еще одна торговая улочка и супермаркет «Примистер». И все-таки путь выпадал неблизкий, к тому же пешком, по запруженным улицам и проспектам, среди кое-как припаркованных на тротуарах машин. Все кругом сигналили, кучи дурно пахнущих отбросов росли все выше, собаки весело разбрасывали их, скидывая в сточные желобки на тротуаре. Пришлось около часа проторчать в очереди у бакалейной лавки, а погода для мая выдалась холодная. Перед Амалией стоял метрдотель, служивший у одного промышленника с улицы Марсо. Он хвастал, что заказал у своего мясника целого быка, а в подвал загрузил тонну картошки. Не преминул он и рассказать, что его хозяин накануне ходил в банк и вернулся с двумя чемоданами, полными банкнот, которые будут переведены на другой счет, в Женеве. Кухарка какого-то ювелира сообщила, что тот, предвидя дефицит, выставил целую батарею канистр с бензином в ванной для постоянно живущей в доме прислуги, и это было не слишком-то приятно. Пока настоящей паники еще не чувствовалось, но ее признаки уже угадывались в разговорах домашней прислуги, здесь, где все знали друг друга по именам и обожали сплетничать и выдавать хозяйские секреты. Амалия выгружала провизию на кухонный стол, когда вошла мадам Порталье. Она проверила покупки: