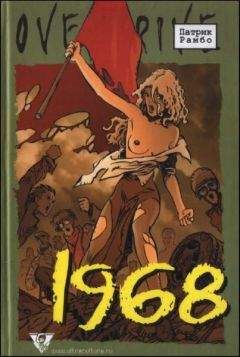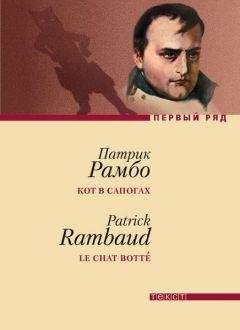Патрик Рамбо
1968
Исторический роман в эпизодах
Марать бумагу и рассказывать истории — мое естественное состояние, но за Гонкуровской премией[1] следует период, напоминающий разъезды «мисс Франции» в разгар избирательной кампании, так что в течение нескольких месяцев я не написал ни строчки. С тем большей радостью я принял предложение газеты «Монд». Речь шла о том, чтобы сочинить своего рода роман с ежедневно публикуемым продолжением о событиях мая 1968 года, тридцать лет спустя воссоздав их атмосферу и перипетии. Идея показалась мне очень соблазнительной. Я бы согласился написать нечто подобное и об охоте на тигра в Малайзии, и о проделках юного Моцарта, и об отмене Нантского эдикта[2]. Когда с головой погружаешься в какую-либо историческую эпоху и вписываешь туда своих персонажей, к ней привязываешься и проникаешься симпатией. Всплывает множество забытых или неизвестных подробностей, и всегда выясняется что-нибудь, достойное удивления.
Роман в эпизодах или роман с продолжением лежит у истоков современной прессы. Он был изобретен в начале 30-х годов XIX века, при Луи-Филиппе[3], когда два издателя одновременно попытались найти ответ на одни и те же вопросы. Дютак из газеты «Сьекпь» и Жирарден из «Ла Пресс» задумались и подсчитали: если увеличить тираж, издательские расходы останутся почти прежними, значит, можно будет продавать газеты по более низкой цене и повысить плату за короткие объявления, раз теперь они будут попадаться на глаза большему числу людей. Нужно привлечь новых читателей? Почему бы не начать публиковать романы, разделенные на главы, романы с продолжением, призванные приучить к газете читателей, которые станут покупать следующие номера, желая узнать, что будет дальше? И вот Александр Дюма и Эжен Сю начали публиковать свои сочинения в газетах, перед зданием редакции с раннего утра стали выстраиваться очереди из желающих узнать, как Флер де Мари[4] или д’Артаньян вышли из затруднительного положения, в котором читатель оставил их накануне. Вместо восьмидесяти франков подписка теперь стоила сорок, подписчиков становилось все больше, дела газет шли в гору. То же самое произошло и в Англии, где в 1845 году Диккенс вместе со своим другом Дайлком основал «Дейли ньюс», вызвав всеобщее снижение цен. Спустя десять лет «Дейли телеграф» стоил уже всего один пенни, в шесть раз меньше, чем «Таймс» или «Морнинг пост».
Роман с продолжением — это прежде всего роман. Дюма получал восемьдесят сантимов за строчку, но контракт предусматривал еще и публикацию книги в одном томе. На тех же условиях работал и Теофиль Готье[5], когда писал своего «Капитана Фракасса». Рассыльный являлся к нему, чтобы выхватить из рук писателя свеженаписанные страницы и спешно доставить их в типографию газеты, а Готье торопился, склонившись над столом Эжена Фаскеля, своего издателя, тем самым столом, на котором в наши дни в доме 61 по улице Сен-Пер кладовщики издательства Грассе запечатывают пакеты с книгами. Позже роман из газет и журналов вытеснили репортажи, а романистов сменили Альбер Лондр[6], Кессель[7] и Бодар[8]; идея романа с продолжением перекочевала в кино, в комиксы, наконец на телевидение. Литература от этого проиграла, ведь требования жанра шли на пользу повествованию, придавали ему силу, более быстрый и четкий ритм.
Роман с продолжением подчиняется четко сформулированным правилам: ежедневно публикуются отрывки одинаковой длины, в моем случае это было примерно десять страниц в день на протяжении четырех недель, итого двадцать четыре главы. Отсюда вытекали и другие условия: должны были совпадать даты, нынешние и тридцатилетней давности — четвертое мая соответствовало четвертому мая. Однако понедельник 1998 года приходится на субботу 1968-го; а поскольку газета выходит всего шесть, а не семь раз в неделю, я быстро понял, что не смогу описывать пятницы 1968 года, когда происходило столько важных событий. Тем хуже для меня, придется изворачиваться. С другой стороны, пустым дням и дням тем, что были переполнены событиями, отводился одинаковый объем. Тем лучше для меня: это позволяло вымышленным персонажам жить своей жизнью и переводить дух в промежутках между ключевыми датами. Каждый день приходилось описывать целиком, поэтому нельзя было оборвать сцену на самом интересном месте, оставляя читателя в томительном неведении, вроде: «Подоспеет ли Блейк, чтобы спасти профессора Мортимера[9]?» Помимо всего прочего, я не мог сам собирать материал — не было времени. «Монд» предоставил мне объемистые, очень подробные подборки документов по каждому дню: газетные публикации, сводки погоды, фотографии, выдержки из книг, исследований или мемуаров, и все это помогло мне вдохнуть жизнь в образы студентов, полицейских, профсоюзных лидеров и депутатов. Я хотел, чтобы все они выглядели как можно реалистичнее.
Я благодарю Жана-Франсуа Фогеля и Эдви Пленель за то, что предложили мне попробовать себя в этом жанре; потомка Эжена Фаскеля — за то, что он превратил этот опыт в книгу; Дидье Риу и Мари-Элен дю Паскье — за множество точных и умно подобранных документальных материалов; и благодарю Тье Хонга, сопровождавшего меня в этом путешествии в прошлое, в весну 68-го, когда нам обоим было по двадцать лет.
П. Р.Суббота, 4 мая 1968 года
Первый булыжник оставил вмятину на полицейском фургоне
— Хорошенькое дело — прямо как гражданская война, — сказал Порталье и зажег сигарету от окурка предыдущей.
— Я в этом ничего не понимаю, но похоже на то, — ответил его друг Корбьер.
Это было в Париже в первую субботу мая, около десяти утра. Двое молодых людей шли с Правого берега[10] по бульвару Пале; на углу набережной Сен-Мишель они остановились на красный свет. Им было по двадцать лет, и они мало чем отличались от остальных студентов: короткая стрижка, спадающая на глаза челка, серые или коричневые вельветовые брюки в мелкий рубчик, неизменно нечищеные ботинки. На Корбьере был длинный развевающийся плащ и полуразвязанный шотландский галстук. Порталье, желая придать себе более стильный вид, поднял воротник куртки. Они никак не могли прийти в себя, узнав, как жестко правительство ответило студентам: вчера вечером полиция осадила Сорбонну; теперь полицейскими был запружен весь Латинский квартал. Вдоль тротуаров выстроились в сплошную линию темно-синие машины с длинными, как звериные морды, капотами и зарешеченными стеклами. Повсюду были видны полицейские в капюшонах, их черные плащ-палатки топорщились, выдавая спрятанные дубинки и каски. Отряд военных в боевом порядке шагал по направлению к перекрестку Клюни — наверняка это были жандармы, вооруженные щитами.
Порталье и Корбьер пришли сюда из любопытства, подобно многим парижанам, которые узнали обо всем из газет или по телефону. Они не участвовали во вчерашних событиях, немного жалели об этом и хотели взглянуть на разрушения своими глазами. Полицейские ограничивались тем, что наблюдали за прохожими, довольные возможностью продемонстрировать свою мощь или, вернее, свою численность. Никто не шевелился. Зеваки, не произнося ни слова, изучали обломки, разбросанные по мостовой, которая была разобрана во многих местах. Они ступали по осколкам разбитых витрин и по чьим-то очкам. Вырванные платаны, сваленные в кучу наподобие баррикад, покореженный дорожный знак, полуобгоревший рекламный щит, черные следы от недолго пылавшего огня, несколько обгоревших консервных банок, которые, судя по всему, пошли в ход для приготовления зажигательной смеси. Дальше на подступах к Сорбонне и Люксембургскому саду виднелись перевернутые машины, поваленные заграждения с соседней стройки, тачки, груды булыжников. Бригада рабочих из префектуры забрасывала строительный мусор в кузов грузовика. Жандармское оцепление с карабинами наперевес не позволяло приблизиться к тем местам, где произошли особенно ожесточенные столкновения, но у Корбьера и Порталье и так не было ни малейшего желания там задерживаться, хотя среди прогуливающихся прохожих в платьях и пиджаках они чувствовали себя в безопасности. В задумчивости, засунув руки в карманы и опустив головы, они вернулись назад по бульвару Сен-Мишель.
Они познакомились в 1966 году в лицее Кондорсе, когда вместе распространяли опубликованную в журнале «Ар э Луазир» петицию в защиту запрещенной «Монахини», безобидного фильма Жака Ривета[11] по роману Дидро, как-никак, классика из школьной программы. Потом они протестовали против исключения ученика, чья прическа — слишком длинные волосы на затылке — не понравилась директору лицея. Молодые люди считали, что живут в крахмально-благообразные и занудные времена конформизма и ханжества. В частной жизни царил «моральный порядок»[12]. Министр информации появлялся на черно-белом государственном телевизионном канале, чтобы представить новую женщину-диктора в назидание той, что дерзнула обнажить колено. Издатели, публикуя Сада или Миллера, рисковали лишиться лицензии. Это тяготило многих. Ни Корбьер, ни Порталье не были политическими активистами, но их бесило такое количество ежедневных запретов. Они не вдавались в теории, а просто возмущались, у них не было образцов для подражания, но были желания. Юноши без конца слушали пластинки Лео Ферре[13], подхватывая припев песен «Тяжелые времена» или «Франко ла муэрте»[14], а Порталье цитировал наизусть целые абзацы из «Аден Аравии» только что прочтенного Низана[15]: «Куда же подевался человек? Мы задыхаемся. Нас калечат с самого детства: кругом одни чудовища!» Оставаясь неразлучны, они вместе поступили на филологический факультет, чтобы слушать лекции в Сорбонне и, главное, покупать билеты в кино со скидкой, но поскольку оба друга жили у своих родителей в красивых западных кварталах, по территориальному принципу они, к своему возмущению, оказались приписаны к университету в Нантере, у черта на куличках.